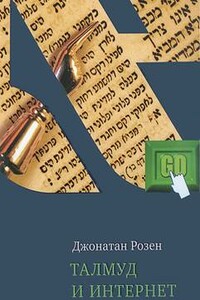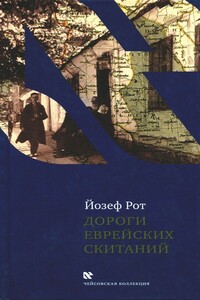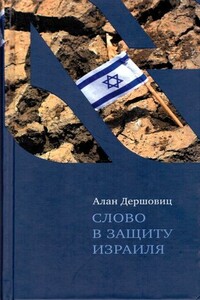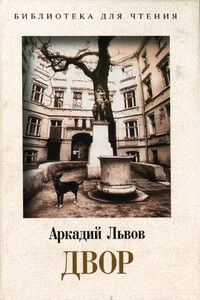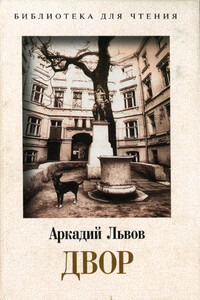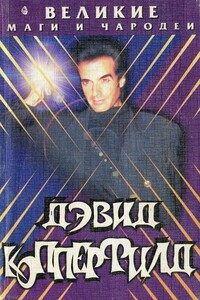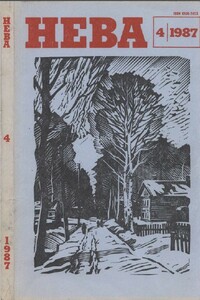Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 59
Что тут сказать: можно только подивиться наивности Надежды Яковлевны, которая, сама будучи православной веры, могла бы, кажись, понять Бориса Леонидовича, тоже выкреста. Ибо, хоть и прошедший чистку через купель и осененный крестным знамением, в тайниках своей иудейской плоти Борис Леонидыч трепетал за свою жизнь, как трепетал на Руси всякий еврей: черт его знает, чего может ударить в голову православному человеку, но чего бы ни ударило — под Сталиным погрому не быть! А к тому и другое: при каком царе на Руси были евреям так открыты все двери? А к тому и третье: кто с января того же, тридцать третьего, года забрал власть над Германией? Гитлер забрал.
Вот и выпал от Бориса Леонидыча вопрос Осипу Эмильичу: «Как мог он написать эти стихи — ведь он еврей!»
Но что же было Осипу отвечать на это: ведь ответ был уже в самих стихах. Стихи, бывшие до того духом над безвидною землею, стали звуком, стали эхом — и покатилось эхо по Руси, и ударилось о кремлевские стены, и прошмыгнуло через Спасские ворота, и достигло ушей главного идола — кремлевского горца!
Кто на Руси, кроме еврея Мандельштама, который, как последний трус, бежал в Александрове, на Суздальской земле, от потешного бычка-одногодка, отважился сочинить да пустить в люди такой стих? Никого не назвать, ибо никого и не было.
Тут, впрочем, и «отважился» сказано не точно: не отвага двигала Осипом, внуком реб Вениамина, а тысячелетний, со времен Синая, категорический императив — не сотвори себе кумира!
Не секрет: отступали и еще как отступали евреи от синайской заповеди, предавались тельцу, поклонялись идолу. Но приходили пророки, повергали в трепет царей и народы, и набирал соки, полнился силой отцовский Завет, Моисеев императив, высшее достижение человеческого духа: не сотвори себе кумира!
Пророческий дух, пророческий слог всю жизнь томил Осипа — обретался ли он в методистах, в эллинах, в католиках, в православных, в афонских ли чернецах-еретиках. Голова его всегда была запрокинута в небо, суздальские крестьянские дети, по невинности своей, вопрошали дяденьку, поп он, что ли, али генерал, что так высоко, над людьми, задирает голову. Все мемуаристы, за исключением, поди, одной Надежды Яковлевны, сходятся на том, что вот эта, с заносом к небу, посадка головы Осипа Эмильевича — главная, пожалуй, особенность его осанки, его видимого физического облика.
А это была не физическая — это была духовная его осанка. В «Слове и культуре», которую христиане-литераторы объявили величайшей Мандельштамовой апологией христианства, Осип уже не в артистическом порыве, а будто сам Исайя, в годину, когда рушится Израиль, рушится мир, возвещает человечеству: «Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился».