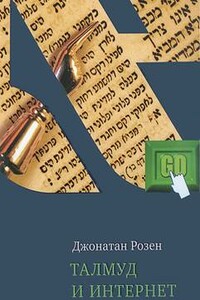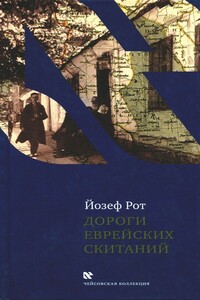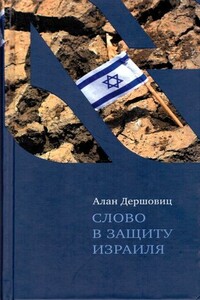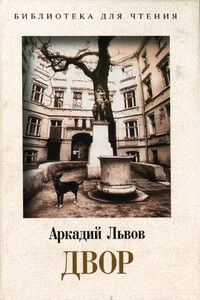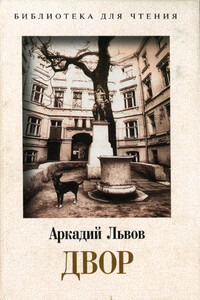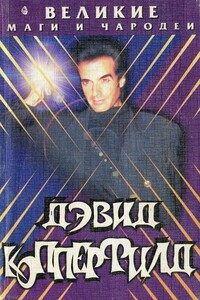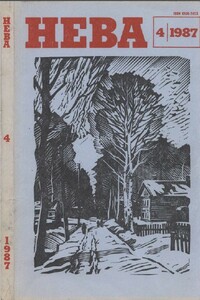Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 56
Валентин Катаев, когда привез из Америки новый автомобиль и тогдашнее чудо, электрохолодильник, говорил блажному Осипу: «Я знаю, чего вам не хватает — принудительного местожительства». И еще, даром что шестью годами моложе был, выговаривал, по извечному праву преуспеяния, неудачнику Осипу: «Вы умрете, а где собрание сочинений? Сколько в нем будет листов? Даже переплести нечего! Нет, у писателя должно быть двенадцать томов — с золотыми обрезами!..» Смеха мне, смеха мне!
О чем мечтал цадик Осип? О двенадцати томах с золотым обрезом? Вот о чем он — Щелкунчик, дружок, дурак! — мечтал:
Бежать! Бежать опрометью, сломя голову, без оглядки:
Это писано в тридцать первом году: к тому времени Петербург уже семь лет Ленинградом числился. В строку здесь запросто было поставить: «В Ленинграде жить — словно спать в гробу». Но что Ленинград: Ленинград — нувориш, без прошлого, без истории. А Петербург — это Россия: вся — и до Октября, и после. И его, Осипа Мандельштама, колыбель-гроб: баюшки-баю!
Кому-то? Отчего же «кому-то», коли точно известно — кому:
Выгоняли Русь, со всеми ее народцами-инородцами, из дому, из хаты, из сакли, из юрты, сажали Русь в телятники — и айда в края, куда Макар телят не гонял! Допреж словом метким пробавлялись, а ноне, мужичок, своим глазом погляди, каковы они, края эти. Да и гляди, пошевеливайся, пока глядится, пока в студень не обратилась синь-вода в глазнице.
Оборотилась Русь в сплошную, на двадцать миллионов квадратных километров — две Европы! — ябеду: сын — на отца, брат — на брата, жена — на мужа, други — на другов. Палачи-щебетуны присели на школьную скамейку: буржуя-интеллигентики, знанию хочем, образованию хочем, так хочем, аж в маузере, в браунинге свербение стоит!
«Родная, — писал Ося своей Наде в тридцатом году, — мне тяжело, а сейчас не найду слов рассказать. Запутали меня, как в тюрьме держат, свету нет. Все хочу ложь смахнуть — и не могу, все хочу грязь отмыть — и нельзя. …Не верю я им, хоть ласковые… Зачем я им? Опять я игрушка. Опять ни при чем. Последний вызов к какому-то доценту: рассказать всю свою биографию. Вопрос: не работал ли в белых газетах? Что делал в Феодосии? Не было связи с Освагом?» А Осваг — это Осведомительное агентство, ведавшее агитацией и пропагандой в белой армии.