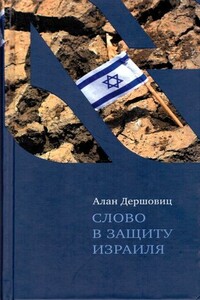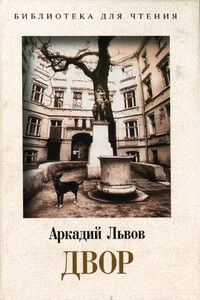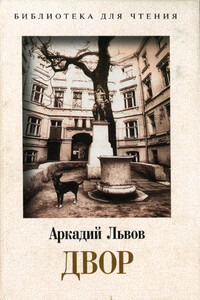Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 55
Но чужое, как ни ловчи, как ни подчиняйся необходимости — действительной ли, выдуманной ли — есть чужое: с известью в крови собирать траву для племени чужого — удел отступника.
Награда отступнику — на губы уксусная губка:
Кинувшись на плечи Осипу Мандельштаму, век-волкодав отнял у него все, чем жив человек, чем дорожит. Человек, пока у него нет сервиза, сказал Гейне, свободен; человек, когда есть у него сервиз, уже не свободен.
У поэта Мандельштама не только сервиза — своего угла не было. Старик Эмиль-Хацнель сокрушался: надо было в Риге подыскать сыну настоящую жену и настоящую еврейку — все было бы по-другому. Надежда Мандельштам во «Второй книге» негодует: «Я никак не могла понять, почему я не настоящая еврейка, но дед не умел этого объяснить. Кроме того, дед считал, что брак со мной мезальянс…»
О, святая простота: крещенная в православную веру, Надя Хазина, родом из города Киева, — и не могла понять, почему курляндский правоверный еврей, сын реб Вениамина, не принимал ее за настоящую еврейку! Больше того, не только не принимал, но и объяснить этого не мог. Как выражался бабелевский Грищук, смеха мне, смеха мне: надо же такое придумать — чтобы жид в ермолке слонялся по православному кладбищу, заглядывая под кресты в поисках своих чистопородных родственничков!
Воистину, есть ли большее на свете лицемерие, чем лицемерие святой простоты!
Не будем гадать, повезло Осипу с женой или не повезло. Ей-то, Надежде Яковлевне самой, это мы знаем из ее слов Элизабет де Мони, попался дурак. Дурак в мужьях, сами понимаете, об этом ли мечтает женщина.
Но, Боже мой, для кого же новость, что праведных, цадиков, прежде чем одарить их признанием, за глаза — а случалось, и в глаза — честили поносным словом. Что говорить о евреях, а у христиан сколько лет, сколько десятков, сколько сотен порою лет проходило, пока опоминались: не блажной — блаженный, праведный, святой был человек!