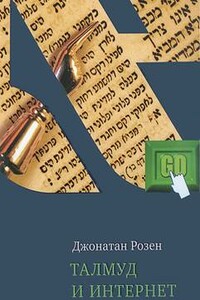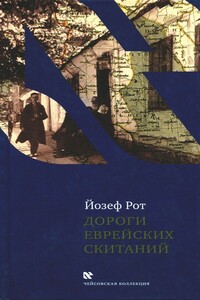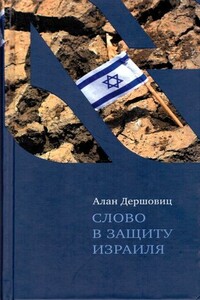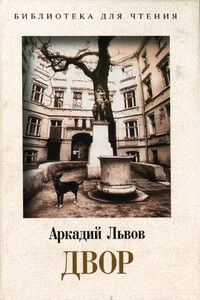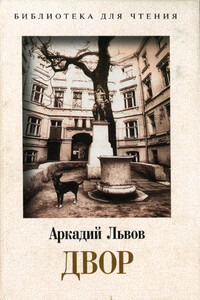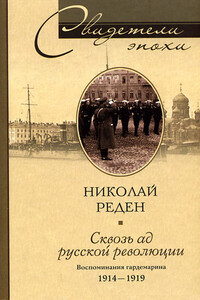Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 5
Смешно, ей-богу, смешно: иудей, которому Господь дал свободу воли, который с ним, свободным, заключил завет как с равным, просит защитить его от собственного — повторяем, свободного — Я!
Что такое человеческая память? «Память — это больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на Николаевский вокзал: не увезет ли кто?»
От кого же увезти: от «страхового старичка» Гешки Рабиновича? От еврейских квартир, где стоит печальная усатая тишина — часы с круглым циферблатом, с остановившимися стрелками-усами? От тети Веры, которая, обратясь лютеранкой, приводила своего папу старика Пергамента, имевшего в свое время дом о сорока комнатах в Киеве, под коими били копытами рысаки, а сам старик Пергамент сиднем сидел в сорока этих комнатах и «стриг купоны»? Или увезти от главного лекарства для золотушных, анемичных еврейских детей, рыбьего жира — «смеси пожаров, желтых зимних утр и ворвани: вкус вырванных лопнувших глаз, вкус отвращения, доведенного до восторга»?
В постылом доме все постыло: «подкова», которая никакая не подкова, а просто булочка с маком; «фрамуга», большая откидная форточка. И заповеди: «не коверкай» — когда говорили о жизни, «не командуй» — опять-таки о жизни.
«Ехал дровяник Абраша Копелянский с грудной жабой и тетей Иоганной, раввины и фотографы. Старый учитель музыки держал на коленях немую клавиатуру. Запахнутый полами стариковской бобровой шубы, ерзал петух, предназначенный резнику».
Господи, что же это: наваждение, горячечный бред — все перемешалось в голове! Время — есть оно или нет его? Есть, есть: «Время… молодая еврейка, прильнувшая к окну часовщика, лучше бы ты не глядела!»
Но, помилуйте, как не глядеть: часовщик сидел «горбатым Спинозой и глядел в свое иудейское стеклышко на пружинных козявок.
— Есть у вас телефон? Нужно предупредить милицию!
Но какой может быть телефон у бедного еврея-часовщика с Гороховой? Вот дочки у него есть — грустные, как марципанные куклы, и геморрой есть, и чай с лимоном, и долги есть…».
Бред, бред! Перо расщепилось и разбрызгало свою черную кровь! Бессвязный, разорванный мир — как устоять человеку, как не убояться?
Пардон, месье, пардон, мадам: это ваша забота, как устоять, это вам начинять себя отвагой. А «я (то есть Ося Мандельштам) не боюсь бессвязности и разрывов… Не боюсь швов и желтизны клея».
Отчудив себя в Парноке, отодвинув на расстояние, чтоб сподручнее было разглядывать себя как стороннего, Ося декларировал свое еврейство — проклятое, но благословенное, отторгнутое, но гнездящееся в костях, в сердце, в каждой клеточке тела.