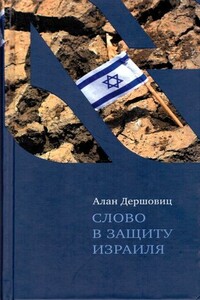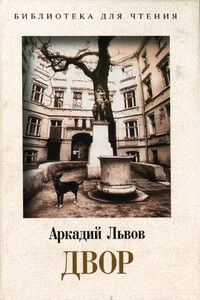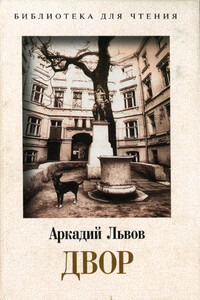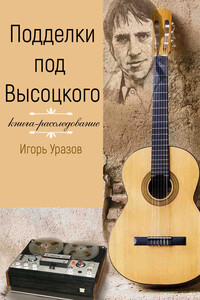Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе | страница 15
Короче, дело было в конце 1909 года, господину Маковскому доложили, что «некая особа по фамилии Мандельштам настойчиво требует редактора, ни с кем другим говорить не согласна… Через минуту появилась дама, немолодая, довольно полная, бледное взволнованное лицо. Ее сопровождал невзрачный юноша лет семнадцати, — видимо, конфузился и льнул к ней вплотную, как маленький, чуть не держался „за ручку“…
— Мой сын. Из-за него и к вам. Надо же знать, наконец, как быть с ним. У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! В его лета пора помогать родителям. Вырастили, воспитали, сколько на учение расходу! Ну что ж, если талант — пусть талант… Но если одни выдумки и глупость — ни я, ни отец не позволим. Работай, как все, не марай зря бумаги…»
Надежда Мандельштам в своей книге «Воспоминания» дала Сергею Маковскому — увы, уже покойному — как надо за эту его сцену и этот портрет мадам Мандельштам: «Маковский изобразил мать О. М. какой-то глупой еврейской торговкой. Это ему понадобилось, очевидно, для того же журналистского контраста: гениальный мальчик из хамской семьи. Между тем мать О. М., учительница музыки, привившая сыну любовь к классической музыке, была абсолютно культурной женщиной, сумевшей дать образование детям и совершенно неспособной на дикие разговоры, которые ей приписал Маковский».
Ну, что тут можно сказать? Прежде всего, что Надежда Яковлевна Мандельштам, в девичестве Хазина, хотя и крещенная в православную веру, осталась настоящей киевской еврейкой — темпераментной, боевитой, знающей свою правду. А как умеют киевские, одесские и вообще наши южные, малороссийские еврейки — не приведи Господь попасться им под горячую руку! — постоять за свою правду, это общеизвестно.
И тем не менее в данном случае я верю больше русскому человеку, Сергею Маковскому. Во-первых, он рассказывает историю, которой был не просто свидетелем, очевидцем, а главнейшим участником. Во-вторых, он был одним из первых, кто признал Осю Мандельштама и увидел в нем типичного еврейского шлимазла: «Из всех тогдашних поэтов Петербурга ни один не нуждался до такой степени. Вообще все сложилось для него неудачно. И наружность непривлекательная, и здоровье слабое. Весь какой-то вызывавший насмешки, неприспособленный и обойденный на жизненном пиру».
А в-третьих — и это самое главное — профессорский сын, православный человек Сергей Маковский, естественно, не смотрел и не мог смотреть на мадам Мандельштам и на Осю глазами киевской еврейки, хоть и крещеной, Нади Хазиной. Можно допустить, поскольку редактор «Аполлона» не вел стенографической записи разговора, что он передает его не дословно. Очень даже может быть, что со временем тогдашние впечатления его обросли некоторыми эмоциональными деталями. Но ведь и эти детали из того же ряда, что и запавшая ему в память сцена.