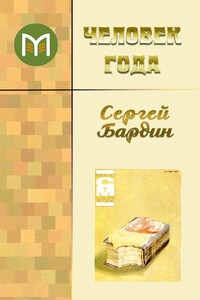Перевозчик | страница 44
Довольный Антон откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.
Машина летела на высоте около километра с небольшой скоростью, примерно четыреста-пятьсот километров в час. Николай с удовольствием обозревал медленно проплывающий внизу пейзаж. Несмотря на то, что он был однообразен: небольшие холмы, поросшие лесом, и река, было красиво. Ярко светило солнце. Русло реки ширилось. Похоже, летели они в ту сторону, откуда он пришел в деревню, так сказать к месту его рождения. Скоро, наверно, покажется его «малая Родина», тот песчаный пляж, где впервые появился он на этот свет.
Но тут машина неожиданно накренилась и повернула в сторону от реки. Притворявшийся спящим Антон (Николай был уверен, что тот притворяется) мотнул в сторону головой, открыл глаза, «проснулся» и спросил:
– Что случилось?
Николай, решив поддержать игру, ответил:
– Пока ты спал, мы уже три круга сделали над деревней.
Антон, оценив юмор, рассмеялся.
В этом месте Николай задал вопрос, уже упоминавшийся автором ранее, о том, что вдруг что-то сломается, они упадут и разобьются. Если помните, на это Антон тоже рассмеялся и сказал, что все сделано из вечных сплавов, которые не изнашиваются и не ломаются. Николай продолжил задавать вопросы по устройству машины. Антон первый раз в жизни столкнулся с таким странным, на его взгляд, любопытством, видно было, что он с детства выучен был по принципу: «Ну летит и летит, зачем знать, как и почему летит?»
Николай никак не мог понять странных особенностей местных жителей: отсутствие стремлений к познанию, неспособность и, главное, нежелание думать.
Получается, что, достигнув высот цивилизации, процесс пошел в обратную сторону. То есть, по закону маятника, снова от человека к обезьяне. Что это: естественный и закономерный ход истории или это кем-то специально устроено, ведь недумающим человеком легче управлять.
Раньше уже упоминалось, что Николай любил общаться с мыслящими людьми, в результате таких бесед, несмотря на свою необразованность (конечно, по земным меркам), приобрел наклонность пофилософствовать.
И он думал, почему тут начинают учить детей только с десяти лет? Всем известно, что ребенок, родившись и едва начав говорить, постоянно задает вопросы: «а почему?.. а зачем?..». Наверно, это длится до определенного времени, когда он накапливает некоторый бытовой запас знаний, достаточный для повседневной жизни. Этот почемучковый период заканчивается примерно к десяти годам. Тогда уже ребенок хочет казаться большим и считает, что он, как взрослый, все познал, и интерес к узнаванию ослабевает, а если этот интерес никак не поощряется, то пропадает совсем. Остается только слегка подучить того же молодого Сашка, чтобы он потом, когда вырастет, вместо девяти телят не приготовил бы всего четыре. Очень похоже, что это действительно так, думал Николай, да, не дураки эти правители!