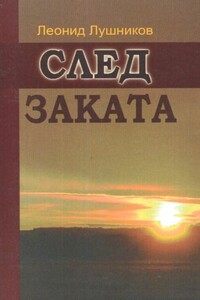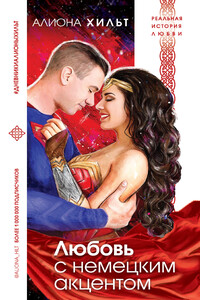Вечерний свет | страница 40
Иногда я навещал своего отца. После нашего последнего столкновения, когда я отказался поехать в Кембридж и на вопрос о причине отказа ответил ему, что решается судьба революции в Германии и я хочу быть с рабочими, он перестал спорить со мной о политике. Иногда я уговаривал его уехать за границу. Он улыбался и смотрел куда-то в сторону: «Зачем?» Немного погодя он добавлял: «Конечно, Германия — тюрьма, но тюрьма комфортабельная. Кстати говоря, — продолжал он, — я уже давно не зарабатывал так много денег. Одного у этих господ не отнимешь: они заботятся о хозяйстве». Он спросил меня: не нуждаюсь ли я в чем-нибудь, я успокоил его: мне хватает моего заработка. По его лицу я видел, что ему не хотелось больше говорить, он сел за рояль, и мы стали играть сонаты Моцарта.
Он всегда говорил неохотно, была в нем сдержанная, рассеянная приветливость, он был так углублен в свое молчание и мечты, что не мог сразу вернуться к действительности, даже если кто-нибудь настойчиво заговаривал с ним, задавал ему вопросы. Тогда в его глазах появлялся страх, который все возрастал, а так как тогда, в молодости, и со мной уже случалось нечто подобное, мне не нужно было объяснять его поведение. «Ты весь в него», — говорили мне с ранних лет. Мне не надо было спрашивать, что с ним происходит, так как я был его двойником, и, хотя жизнь вела нас совсем разными путями, я всегда чувствовал, что близок ему. Быть может, он это знал, меня утешает это предположение теперь, когда наши долгие, но отрывочные разговоры вот уже несколько десятилетии назад окончились с его смертью каменным безмолвием.
Как и прежде, он играл два часа в день в утренних сумерках из «Хорошо темперированного клавира», задолго до завтрака и до прихода секретарши. Его игра на рояле была, как всегда, изумительна; сейчас он играл еще больше, чем когда-либо. Настали времена, которые он должен был терпеть, презирая их. Он и раньше мог жить только благодаря музыке, теперь он проводил с ней большую часть дня. Иногда он приглашал меня музицировать вместе с ним, я неплохо играл на скрипке, но не так хорошо, как он. И все-таки он хвалил меня, ибо я, как он выражался, понимал то, что играл. Камерные концерты, которые вошли у нас в обычай в прошлые годы, хотя состав исполнителей часто менялся, теперь почти прекратились — наши друзья и партнеры уехали или предпочитали больше с нами не знаться. Как-то нам с отцом встретился на одной из редких совместных прогулок наш друг, одаренный молодой немецкий композитор. Он многие годы был принят в нашем доме и был из числа артистов, которым помогал мой отец. Теперь он ускорил шаг, чтобы ему не пришлось с нами здороваться. Он больше никогда не появлялся у нас, как я узнал позже. В своем искусстве он не сделал уступок национал-социализму; лучшее его произведение было во время войны впервые исполнено знаменитым оркестром и на следующий день запрещено министром пропаганды. Много лет спустя я повстречал его снова. Он с большим участием говорил о моей семье и обо мне, спросил об отце. Я сказал ему, что отца увезли в «хрустальную ночь»