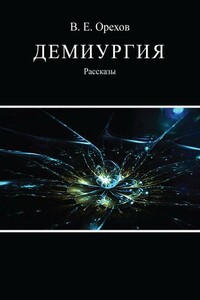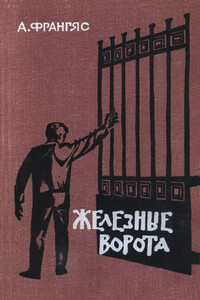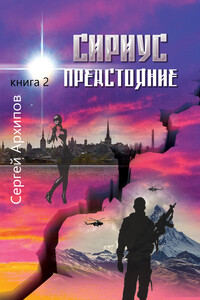Лето столетия | страница 19
Итак, поздно вечером Марья Иосифовна караулила пассажиров поезда. Её опасениям, что никто не спустится на насыпную платформу, не суждено было сбыться. Но суждено было сбыться и обратным её тайным чаяниям.
Поезд стоял недолго. Прорвав ночную мглу металлической иглой паромеханической прялки, он остановился буквально на несколько минут, чтобы освободить из своего тёмного полона одного-единственного пассажира. Темноволосая девушка с лёгким тряпичным саквояжем спустилась вниз. Её никто не ждал и не встречал. Никто даже не помог ей спуститься, перенести вещи. В антрацитовой ночи она была одна, более одинокая, чем Луна, но сияла ярче, чем звёзды. Итак, её звали Айсур.
На самом Востоке
На самом востоке молодой Казахской автономной республики, в селении Чунджа было уже очень поздно. Пастухи, вечные хранители и хозяева этой пустынной земли, такой холодной и такой горячей, видели незамысловатые сны про свет, про птиц и про вечную жизнь. Ни в одном доме, даже в доме Тимирязева, свет уже не горел, а куры спали на поднятых от змей шестах. Ночь выдалась холодная, и, несмотря на начало лета, температура в эти часы не поднималась выше пяти градусов. Резко континентальный климат почти допёк Тимирязева, но он не знал, что ему оставалось жить чуть более двух лет в этой добровольной ссылке, пока на его родине, в Ульяновске, не умрёт в результате несчастного случая его враг. Бывший начальник райотдела ОГПУ Сеськанов погибнет, перезаряжая наградное оружие, выданное к тому времени уже арестованным и объявленным врагом народа Генрихом Ягодой… А до этого времени Тимирязев почти достигнет в мыслях и действиях умения сосредотачиваться ни на чём, править лошадью как заправский уйгур, не полюбит и не разлюбит местную жизнь. В Ульяновск он приедет уже совсем другим человеком.
Кроме Тимирязева, тогда в Чундже не было ни одного русского, а местные казахи – наполовину уйгуры, наполовину собственно казахи – жили, не меняя своего уклада, как минимум последнюю тысячу лет. Единственным и самым важным изменением в их жизни стало появление в селении проволочного телеграфа, ещё до первой волны индустриализации. Старики сидели на циновках в смешных расписных халатах, сотканных при русском царе, и, теребя негустые белые бороды, смотрели мудрым и в то же время ничего не выражающим взглядом, как молодые рабочие проводят телеграфную проволочную ветку.
Столбы появлялись из-за горизонта, откуда-то так далеко, куда даже не гоняют лошадей, где рождается западный ветер. Их медленно привозили на гружёных повозках, запряжённых тяжёлыми, не местными совсем лошадьми, в окружении молодых светловолосых парней с севера. Предшественник Тимирязева – Тарусов – руководил приёмкой работ, и он же получил единственный на двести вёрст телеграф. А столбы проросли по селению, будто титаническим божественным забором разделив его надвое, и ушли дальше. Те, кто помоложе, говорили – «на Китай». Старики-уйгуры не понимали смысла телеграфа, не осуждали его и оставались безучастны к его судьбе. Больше в их жизни ничего сверхъестественного не происходило.