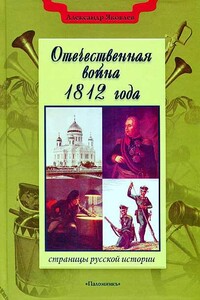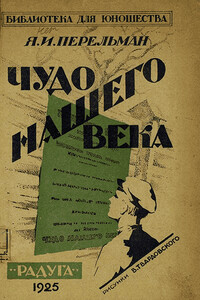Знание-сила, 2007 № 08 (962) | страница 18
Столь же небрежно относились ко времени средневековые хронисты: они знали, например, что древние не были христианами, но могли написать, что древняя римлянка отправилась к мессе, что на похоронах Александра Македонского были монахи с крестами или что Катилина отслужил обедню во Фьезоле. Они знали, что в древние времена жили по-другому, но не придавали этому серьезного значения.
Но обычное время — то, в котором день непременно сменял ночь, и дни эти могли быть сосчитаны — при всем снисходительно-небрежном к нему отношении отвоевывало позиции. В часах еще не было настоятельной нужды: день, как и месяцы, членился делами, длительность отмерялась ими же, а более точно эту длительность измерять никому не приходило в голову. С таким восприятием времени в деревнях можно было столкнуться относительно недавно: в 60-е годы на вопрос социолога, когда женщина выходит на работу, та простодушно отвечала: «Как подою корову, так и выхожу».
Но все чаще возникали ситуации, в которых подсчет дней приобретал значение, и, прежде всего, в хозяйственной и коммерческой деятельности. Деньги надо было вернуть ростовщику вовремя; занявший их купец считал дни пути через пустыню и подгонял караван. Даже если он путешествовал на свои, принцип быстроты оборота как условия умножения богатства, полагаю, был понятен ему уже тогда. Заказ ремесленнику давался на определенный срок; если это был не раб, а свободный человек, он сам был заинтересован сделать работу побыстрее. Если же речь шла о работе древних мастерских с примитивным, но все же явным разделением труда, координация действий многих людей требовала принципиально нового отношения к времени.
И хотя, разумеется, все это были низшие, даже презренные заботы, а подлинно высокое, настоящее время отсчитывалось церковными колоколами, и было в полном распоряжении церкви, все же в толще Средневековья зарождалась и крепла иная идея времени. Правда, ее исповедовали социальные группы, никак не относившиеся к особо уважаемым в средневековом обществе — поэтому идея и не могла укрепиться в самом ядре средневековой культуры.
Длительность предполагает, следовательно, сознание; и уже в силу того, что мы приписываем вещам длящееся время, мы вкладываем в глубину их некоторую долю сознания... Постепенно мы распространяем эту длительность на весь материальный мир. Так рождается идея вселенской длительности, то есть идея безличного сознания.
А. Бергсон, 1923