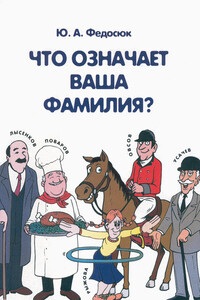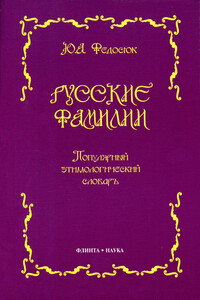Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов | страница 32
Пневматические двери появились в трамваях только после войны. До того отправление трамвая происходило так: кондукторша, стоявшая в заднем конце вагона, справа, убедившись, что все сели, дергала за веревку, конец которой соединялся с рычагом простого механического звонка, находившегося над головой у вагоновожатого. Да, именно «вагоновожатого»; теперь его уже давно переименовали в «водителя трамвая». На тонкое «динь» кондукторского звоночка, вожатый отвечал гулким «бом-бом» своего ножного звонка: дескать, понял, отправляюсь. Если вагон имел прицеп, кондуктор прицепа звонил кондуктору моторного вагона, а уже тот вожатому.
Во время езды вожатый усердно пользовался своим «бом-бом»: уличная дисциплина тогда была слабая, многие приезжие, особенно из деревни, не учитывали опасностей уличного движения.
Театральная площадь.
Фотография 1929 г.
Многие вместо «трамвай» произносили «трынвай». Всякие наезды и аварии происходили чаще, чем сейчас. Во всяком случае, я, по малолетству ездивший в трамвае нечасто, видел их немало. Обычными были и пробки, заторы рельсового транспорта. После того как, съезжая с Рождественской горы, вагоны с непрочными тормозами налетали на впереди идущие, на гребне горы устроили установку со специальной сигнализацией: только после сигнала, что передний трамвай вышел на Трубную площадь, пускался в ход ожидающий. Но и это не спасало от аварий. Проблему решили просто: сняли эту линию вовсе – убыль, до сих пор ощущаемая москвичами.
Летом площадки были открытые, проветриваемые. Левые дверные проемы наглухо закрывались решетчатыми загородками метровой высоты. Зимой устанавливались сплошные двери, но неотапливаемый вагон в морозы превращался в передвижной холодильник, ехать в котором, даже при обилии пассажиров, было очень зябко.
Особенно тяжела была работа вагоновожатого, сидевшего на высоком табурете с круглым сидением. Его рабочее место не сразу догадались отгородить от салона. Хотя одет он был и тепло: в ватник, тулуп и высокие валенки, – постоянно открываемая передняя дверь уравнивала температуру с уличной. Автоматические стрелки вводились медленно, на перекрестках дежурили постовые стрелочники – бесформенные фигуры, облаченные в теплое тряпье. Но иногда стрелочник отсутствовал, и вожатому самому приходилось вылезать из вагона и собственным ломиком переводить замерзшую стрелку.
Прицепные вагоны, редкие в 1920-х годах, в 1930-х стали обычными, при этом ходил не только один, но и два прицепа. Выражение «трамвайный поезд» становилось вполне закономерным. В качестве первых прицепов долгое время использовали бывшие вагоны конки, окончательно упраздненной в Москве в 1912 году. Равнодушие к отечественной истории, свойственное 1920—1930-м годам, привело к тому, что ни одного коночного вагона, столь достойного музейного хранения, в Москве не сохранилось.