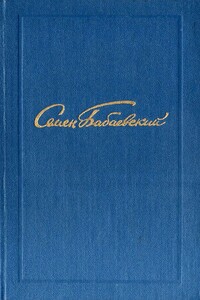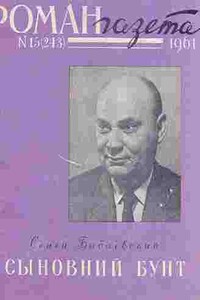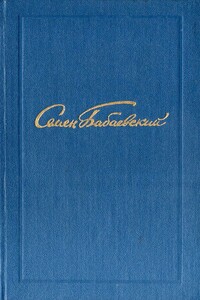Свет над землёй | страница 60
— Федор Лукич, — сказал он, остановившись у окна, — ты или уже с ума выжил, или черт тебя знает!
— Это ты о чем? — встревожился Федор Лукич.
— Об чем? А о том самом, — раздраженно сказал Артамашов. — К чему ты завел этот разговор в присутствии Нарыжного? Кто он такой, этот твой Нарыжный? Сегодня он тебе сапоги снимает, подхалимничает, а завтра продаст тебя за грош… А жена?
— Алексей, так это же люди свои, — виновато улыбаясь, проговорил Федор Лукич. — И Нарыжный и Марфушка… Да и ничего я такого не говорил… Нам надо собраться и написать в Москву, а разве кто запрещает писать? Я и Кондратьеву скажу, что буду писать жалобу. Надо собраться и написать.
— Кто соберется? Кто напишет? — резко спросил Артамашов. — Ты, Нарыжный и еще такие ж, как вы? А кто вам поверит? Обиженным и обозленным не верят. Спросят: кто такой Нарыжный?
— Что ж по-твоему? — спросил Федор Лукич.
— Если писать, то не нарыжные, а настоящие люди должны написать такое письмо… На кого опирается Тутаринов? В чем его сила? — Артамашов подошел к столу. — Нужно, чтобы написали Рагулин, Прохор Ненашев, Несмашная, Савва Остроухов… Или Хворостянкин — тоже человек с весом. Да еще бы десятка два колхозников — из тех, что самые передовые… Вот это сила, а не этот твой дурак с кошачьими глазами.
— Трудное дело, — как бы про себя сказал Федор Лукич. — Те люди, как я понимаю, нас забыли.
— А! Забыли! Так какого ж черта языком треплешь! — Артамашов прошелся к окну и обратно.
Вошла Марфа Семеновна. Артамашов, улыбаясь хозяйке, сказал:
— Ну, Марфа Семеновна, спасибо вам за курятину, еду в станицу.
— В ночь? — удивилась Марфа Семеновна. — Да оставайся, Алексей, до утра. Я уже и постель приготовила…
— Нет, нет, мне надо ехать…
Федор Лукич молчал, точно и не слышал этого разговора. Артамашов попрощался, а когда сел в седло, сказал Хохлакову:
— Федор Лукич, ежели ты мыслишь все иначе, то лучше прикуси язык.
За мостом, свернув на дорогу, ведшую в Усть-Невинскую, Артамашов пришпорил коня и понесся по степи галопом. «Нет, таким надо умирать — пень сгнивший и только. И этот туда же — «спайку, спайку»… Эх ты, сатана бесхвостая!..»
Степь под звездным небом, прохлада, идущая от реки, дробный стук копыт, свежий ветер, лезущий под рубашку, — все это было так привычно и мило сердцу, что Артамашов сразу повеселел и, пуская коня на шаг, негромко запел: «По яру, да по глубокому…»
Вскоре по берегу, на черном фоне Верблюд-горы, показались частые огни Усть-Невинской.