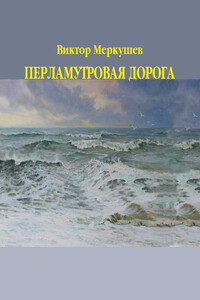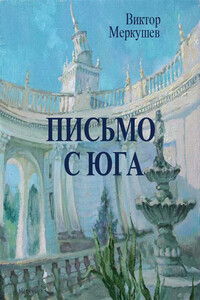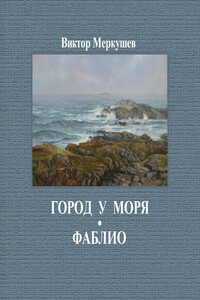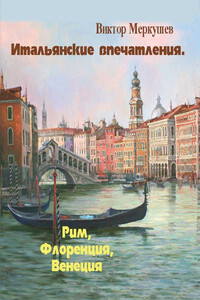Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм | страница 16
М. Л. Магницкий. Гравюра XIX века. Автор неизвестен
«Как скоро узнал я, мой почтеннейший М.М., что вы сюда приехали, первое движение моего сердца, первое чувство всего моего семейства было – обнять старого благодетеля и друга. Но за глупым сердцем говорил разум: ты в опале, люди придворные этой чумы боятся; тот, которого в углу твоём почитаешь ты другом, на большом театре мира не раз показал тебе противное, толкал ногой мертвеца политического; чуждался всего, тебе принадлежащего; угодники, его окружающие, тебя бегали, – что за охота бросаться в холодную ванну? Вчера приезжает ко мне здешний архиерей, друг моего Вологодского изгнания, свидетель коих к вам чувств [Преосвященный Гавриил, архиепископ Херсонский и Таврический. Кстати, в «Памятных заметках Во-логжанина» («Русский архив» за 1867 г. № 12, ст. 1659) преосвященный Гавриил ошибочно назван «Архиепископом Одесским, Харьковским». С 1828 по 1837 г. он был епископом, а потом архиепископом Екатеринославским, Херсонским и Таврическим и жил в Екатеринославе. В 1837 г. за отделением епархии Екатеринославской, он переселился в Одессу и начал именоваться архиепископом Херсонским и Таврическим][1]. Первое слово о вас: как я с вами увидался? – Никак. – За что поссорились? – Не ссорились, и ничего друг против друга не имеем. – Что ж это значит? – и, подумав, добрый пастырь решил: есть в котором-нибудь недостаток смирения. – В обоих, – отвечал я; но как в слове смиренномудрого был завёрнут дух, то оно так принялось у меня на сердце, что в тот же день решился я перед вами смириться. И подлинно, шли мы с вами далеко и долго, разными дорогами и пришли – ко гробу! Ещё шаг, и увидимся там, куда ни мешки, ни орденские мантии не про лезают; надобно бросить всё горючее в дороге, чтоб там не вспыхнуло. – Угодно ли?»
Могло ль не подействовать на высокую душу Сперанского столь искреннее излияние знакомой ему души. После этих разительных строк старые друзья имели частые свидания, но последние для них в юдоли плача, где не всегда сердце сердцу весть даёт.
Если в предыдущих очерках сколько-нибудь удалось нам представить читателям нашим Магницкого, каким он был на закате дней своих, то нетрудно будет им угадать – каковым соделала его сила Божия в борьбе со смер-тию. Покойный заболел от простуды в ненастную и бурную погоду, сокрушившую на нашей гавани мореходные суда. Он затворился дома, но не слёг; лечил себя домашними лекарствами, и три дня спустя, в угодность озабоченной супруге своей, пригласил к себе просвещённого врача, который, с первого взгляда заметив в больном признаки воспаления в груди, настоятельно потребовал кровопускания. Но, увы, напрасны были все убеждения: больной отказывался от средства, никогда в жизни им неиспытанного, и, как бы торопясь в далёкий, безвозвратный путь, решительно отклонил от себя чашу земного бытия. Болезнь усилилась; внутренние лекарства не помогали; больной страдал без малейшей жалобы или стона, страдал и помышлял о вечности. Нас, друзей своих, принимал он с обычным радушием, с изумительным присутствием духа, не изменявшим ему ни на минуту. Беседуя однажды при мне с другим посетителем, больной указал на меня, я промолвил: «Вот, за кого боюсь, когда А.С. заходит ко мне в дурную погоду». Ноября 19-го, после страдальческой ночи, больной начертил слабевшею рукою духовному отцу своему следующие строки: «Лобзаю отеческую руку за возношение любви; но так как прошлая ночь была очень дурна и кашель может усилиться; то я желал бы завтрашний день пораньше или сегодня вечером исповедаться, а после завтрашней литургии приобщиться, и потому желал бы условиться о часах и приличных экипажах, которые будут готовы». Всё совершилось по желанию сердца сокрушённого и смиренного, жаждавшего вечной жизни. Тщетно окружавшие его, говоря о возможности выздоровления, напоминали ему о детях и внуках: собравшийся в путь раб Божий отклонял от себя суетные надежды, и в ответ тихим голосом повторял: «Нет, пора, пора!» Во вторник, 21-го ноября, почувствовав близость смерти, опять послал за духовником, который поспешил к нему и в продолжении двух с половиной часов непрестанно молился у постели его, совоздыхая верою и любовию к небесному Разрешителю всех уз греха и плоти, Господу Иисусу. Ровно в 6 часов вечера преставился раб Божий Михаил, – только 12-ю часами опередивший в вечности благодетеля своего, любвеобильного князя А. Н. Голицына…