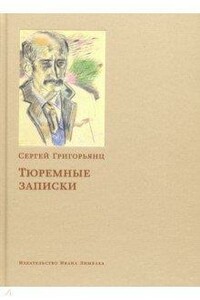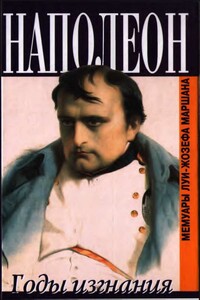Далее... | страница 6
Постепенно, день ото дня все больше и больше, стал Нусн среди публики своим. Он спит, зажатый, на нарах. Старый Вестлер неделю времени отдельно занимался им. Он, Нусн, знает уже точно, наизусть, что означают эти четыре буквы сокращения в слове МОПР. Он уже знает даже, Нусн, что кастрюля борща с плавающими поверху жирными кусочками мяса, которую получают каждый день с воли — мопровская кастрюля борща, он уже знает также, что кроме его собственного адвоката, которого выставит, с божьей помощью, он сам, МОПР выставит для него еще адвоката — и, даст бог, все будет хорошо.
В тихий час, когда народ читает, сидит Нусн, задвинувшись куда-то в угол, и тоже смотрит в брошюрку. Тяжелое чтиво. Нарубить повозку дров против этого — раз плюнуть. Он теряет каждый раз нить, оглядывается, не видит ли кто, перелистывает страницу за страницей, а мысли его, сами собой, улетают пока что ни с того ни с сего туда, в Единцы, домой, к его жене и к мальчику.
В час, когда народ ведет дискуссии, Нусн моргает глазами, чувствует, как горят у него щеки. Добрые, серьезные разговоры, мировые проблемы. Он, конечно, как и каждый, тоже бы мог что-нибудь сказать. Только вот язык у него как приклеенный — где взять такие слова и такие мысли?
Старый Вестлер назначил товарища, чтобы тот каждый день вел с Нусном легкие «теоретические» беседы. И Нусн внимал. Товарищи, видит он, уважают его, наверно. А он, чувствует он, тоже уважает их очень. Он бы их всех обшил и одел, только нет ничего под рукой. Он прямо просит, чтобы ему дали делать хоть что-нибудь. Народ ходит по камере — сегодня один, завтра другой — в одних пиджаках, с голыми коленями, а Нусн сидит на нарах, скрестив по-турецки ноги, сидит оживший, он в своей стихии, и с песенкой под носом зашивает у брюк распоротые швы, укрепляет пуговицы, заштопывает дыры, обрасывает каким-то удивительным зигзагом протертые, растрепавшиеся манжеты понизу.
Этот случайный здесь единецкий портняжка меняется, видим, день ото дня. С каждым разом он становится все разговорчивее. Начинает вмешиваться понемножку в беседы. Даже вваливаться без своего «извините, пожалуйста».
Больше всего, что он видит здесь и слышит здесь целый день, говорит он, запал ему в душу последний час дня, вот этот час перед отбоем. Такого вообще себе не представить.
Расскажи кому-нибудь, так не захотят поверить. Одного этого, говорит он, уже стоила вся история, что с ним произошла, вся беда, что свалилась на его голову.