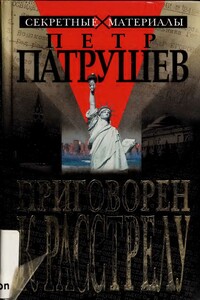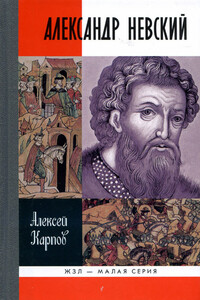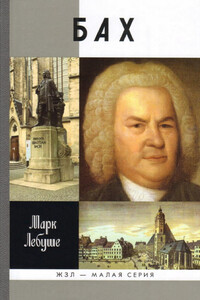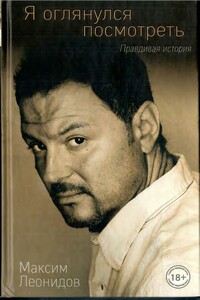Далее... | страница 16
Наоборот…
Мы с Беней попрощались, обнялись. Беня ушел к себе домой. К сестре. Может, даже обратно к отцу. Я спустился в город, к мадам Шалер, на улицу Морарь, где квартировал до ареста.
Я, кажется, шел грустный. Мне даже вроде жалко было тюремной камеры, откуда я только что вышел на свободу.
Навстречу мне шла не свобода, а наоборот — несвобода.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Писатель может делать, что он хочет.
Вот хочу я, и я делаю прыжок, и я опять дома. Спускаюсь с высокой каменистой горы, и я опять в этом Рашкове, у этой высохшей сморщенной груди, к которой я часто и жадно припадаю губами и пальцами, сосу и сосу, и не могу, такой уже, слава богу, большой парень, отвыкнуть, хоть эти посиневшие, растрескавшиеся соски намазали горечью, и все кричат на меня.
Этот крошечный Рашков. Малюсенькая точечка в огромном божьем мире. Звездочка среди миллионов звездочек и звезд. Сколько я уже о нем рассказывал и рассказывал, а все еще нахожусь вначале, еще ничего не рассказал и ничего не сказал. И сколько я еще, наверное, скажу и расскажу, все равно, конечно, больше останется не рассказанного и не сказанного.
Народ месит глубокую предпасхальную рашковскую грязь. Сын старого раввина, Хаим-Довид, уже вот-вот где-то в литовском ешиботе должен был тоже закончить на раввина, и из-за того, говорят, что переучился, из-за слишком умной головы, сейчас здесь, дома, около отца — рашковский местечковый сумасшедший. Он стоит возле нашей открытой двери и пальцем подзывает мою сестричку, Фейгеле. Он один знает, какое доброе у Фейгеле сердечко. Украдкой, пока мама будто не видит, выносит она ему каждую пятницу под фартучком пару горячих оладушек. Хаим-Довид не благодарит и не благословляет. Горячие оладушки за пазухой обжигают его голое тело под распахнутой рубахой. Он смеется хрипловато-придушенным смехом. Глаза у него синие — бледно-синие небесные глаза. Бородка — светлая, редкая, хоть по пальцам пересчитай эти несколько волосков. Голова — сверхъестественно заросшая, льняная. Он ведет вечные беседы и дискуссии с раввинами и талмудистами. Он смеется, прерывая хрипловато-придушенным смехом свои доводы. Черный изодранный кафтан свой он не надевает, как надевают кафтан. Но ходит завернутый в него, как в талес, черный талес. Или забросит его на одно плечо, одна пола туда, другая пола сюда, придерживает разлетающийся кафтан рукой за середину, останавливается с задранной головой, как принц Гамлет в своем плаще. Не горячие оладушки за пазухой отвечают на вопрос: быть или не быть, а, как видно, доброе сердечко этой маленькой девочки. Потому что вторая рука местечкового сумасшедшего Хаим-Довида между тем щиплет мою сестричку за щеку. Конец Хаим-Довида, к слову: зимней ночью, в сильный мороз, остался сидеть на ступеньках около домика, где его отец добрым евреям давал добрые советы. Не постучал, чтобы отец впустил его. Или уши старого отца не услыхали стук сына. Рано утром местечкового сумасшедшего Хаим-Довида, сына старого раввина, нашли на отцовских ступеньках одеревеневшим…