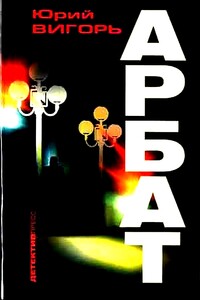Сомнительная версия | страница 60
Велимир Хлебников, «Труба марсиан», 1916 год. Один листочек, большая редкость. Конечно, это возьмем. Маяковский «Я», литографированное издание, 1913 год. Илья Эренбург, «О жилете Семена Дрозда», Париж, 1917 год, Алексей Ремизов, «Что есть табак», Сириус, 1908 год, Велимир Хлебников, «Затычка», с иллюстрациями Бурлюка, 1913 год.
«Это же настоящая сокровищница, — лихорадило его от разгоревшегося азарта. — За содержимое такого шкафа, если выгодно сбыть, сегодня можно купить домишко вроде этого. Но что домишко, что деньги, когда тут редчайшие издания, которые сохранились в считанных экземплярах после стольких лет. Славный, славный человек был покойный профессор ботаники. Такие цветочки русского ренессанса сберег. Прекрасный гербарий, чудная коллекция. Знал толк в литературе профессор. Со стариканом, видать, не только о ботанике можно было побеседовать. Не замыкался в узкопрофессиональных интересах. В ногу со временем жил, увы, отсохший росток русской интеллигенции профессор ботаники Голоугольников.
А вот и Евгений Иванович Замятин, „Как исцелен был инок Еразм“, издательство „Петрополис“ с рисунками Кустодиева. Тоже приятный пустячок, но отложим направо. Без этого в крайнем случае можно обойтись. Дорого не заплачу, нет».
— Здравствуйте, Николай Степанович! — взял он в руки сборник стихов «Шатер» Гумилева. — Вы, конечно, король поэтов. Увы, поверженный король.
«Все же положим направо, — решил он. — Не такая уж редкость. Да и поговаривают, что скоро должны переиздавать».
Он разобрал книги. Далее шла целая кипа альманахов: «Круг», «Дом искусств», «Записки Мечтателей», «Писатели о себе и о творчестве», «Стрелец», «Летучий Альманах»…
«Неужели старушенции согласятся все это мне продать? — обмирало у него сердце, и зло стучал пульс у левого виска, подергивало тиком веко. Дудин бросал частые взгляды в сторону двери на кухню: оттуда слышались звякание посуды и приглушенный старческий говор. — А собственно, почему бы и нет? — размышлял он. — Зачем им все это, в конце концов, нужно? Пусть оставят себе кроме ботанических катехизисов сотни две, три художественных книг. Вон у них два шкафа с собраниями сочинений. Пусть перечитывают на досуге классиков. Классики наводят на тихие, благочестивые мысли и успокаивают, как валерианка. А поэзия, особенно поэзия двадцатых годов, вредна в старческом возрасте. От нее может подняться у бабушек артериальное давление… Я должен позаботиться между делом об их здоровье… В крайнем случае, если уж потянет на поэзию, пусть себе перечитывают Фета. Его элегии так миротворны…»