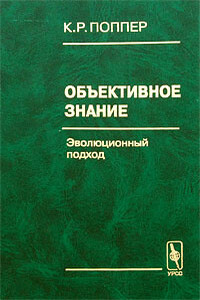Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография | страница 55
Теперь я воспользуюсь моим списком теорий Платона от (1) до (4), чтобы вывести из них теорию искусства как экспрессии (теорию, которую я не разделяю). Мое главное утверждение состоит в том, что если мы возьмем теорию вдохновения или лихорадки и выбросим из нее божественный источник, то мы тут же придем к современной теории искусства как самовыражения, или точнее, самовдохновления, а также выражения и коммуникации эмоций. Иначе говоря, современная теория — это вид теологии без Бога, где место богов занимает скрытая природа или сущность художника; художник вдохновляет сам себя.
Ясно, что эта субъективистская теория должна отбросить или, по крайней мере, принизить значение пункта (3): воззрения, что художник и его аудитория поддаются воздействию произведения искусства. Однако мне пункт (3) представляется именно той теорией, которая правильно описывает взаимоотношения между искусством и эмоциями. Это объективистская теория, которая утверждает, что поэзия и музыка могут описывать или изображать, или драматизировать сцены, имеющие эмоциональную значимость, и что они могут описывать или изображать даже эмоции как таковые. (Обратите внимание, что из этой теории не вытекает, будто в этом состоит единственный способ, которым искусство может быть значимо.)
Эту объективистскую теорию взаимоотношений между искусством и эмоциями можно обнаружить в приведенном в прошлой главе отрывке из Кеплера.
Она играла важную роль при возникновении оперы и оратории. Ее, несомненно, разделяли Бах и Моцарт. Она, кстати, прекрасно совместима с теорией Платона, изложенной, например, в «Государстве» и «Законах», что музыка имеет власть возбуждать эмоции, успокаивать их (в случае колыбельной) и даже формировать характер человека: одни виды музыки делают его храбрым, другие — трусливым; с теорией, которая преувеличивает силу музыки, если не сказать большего