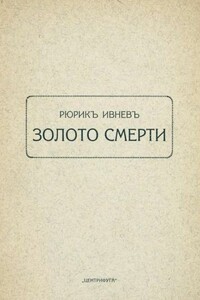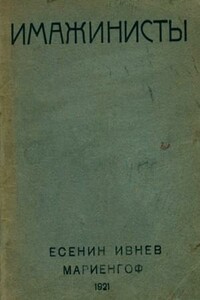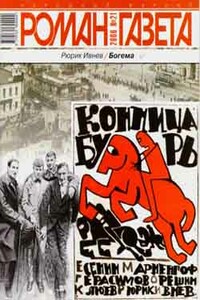Серебряный век: невыдуманные истории | страница 51
Хлебников иногда смотрел на меня своими грустными, все понимающими глазами, но я чувствовал, что нас крепко связывают нити его собственных стихов и моих тощих книжечек «Самосожжение». Иногда он мне излагал, но не плавно и внятно, а как-то отрывисто и полунамеками, свою теорию чисел, изложенную им впоследствии в брошюре: «Время – мера мира». Когда он говорил, его оригинальная теория звучала очень убедительно. Это было своего рода пророчество, предсказание будущих событий при помощи языка цифр.
Велимир Хлебников был горячо убежден в неуязвимости своей теории. В отличие от других «пророков», которые покоряют слушателей своей экзальтацией и ораторским талантом, Хлебников был спокоен и даже косноязычен, но силу своего убеждения он передавал иным способом, точно зафиксировать который невозможно. И здесь он был своеобразен, и здесь он был человеком иного плана, чем все остальные. Значительно позднее, после выхода в свет его брошюры «Время – мера мира», я показал его труд одному талантливому математику, который сказал мне, что теория Хлебникова, его попытки предсказать будущие события путем «жонглирования цифрами», так выразился он, с точки зрения математики не выдерживают критики. Я ничего не понимаю в этой науке, но все же уверен, что Хлебников не стал бы заниматься мистификацией. Возможно, в будущем будет найден ключ, при помощи которого можно будет расшифровать его теорию. Ведь часто бывает: то, что кажется нам сегодня непонятным, завтра или много лет спустя становится ясным.
Тишина Петербурга 1913 года длилась недолго. Ее сменила буря войны, а затем буря революции.
В марте 1918 года молодое советское правительство во главе с Лениным переехало в Москву, которая была объявлена столицей нашего государства. И Петроград вошел в организованную в это же время «северную коммуну». А. В. Луначарский по решению правительства оставался в Петрограде, а я был назначен его секретарем-корреспондентом.
В сентябре 1918 года А. В. Луначарский направил меня в Астрахань на открытие народного университета. В Астрахани поэт Сергей Буданцев, бывший офицер Красной армии, сказал мне, что в городе находится Велимир Хлебников. Я узнал его адрес и зашел к нему. Он только что приехал к своим родным, жившим постоянно здесь. Для Хлебникова мое появление было неожиданным. Он был изумлен и обрадован, но опять-таки по-своему. Не было ни всплескивания рук, ни обычных объятий. Он только крепко пожал мою руку и усадил за большой обеденный стол, на котором в беспорядке были разбросаны арбузные корки и крошки хлеба. Среди них сиротливо стоял стакан с недопитым чаем. Хлебников нисколько не был смущен, что я «застал его врасплох среди хаоса, царившего на столе». Он спокойно познакомил меня со своим отцом, также нимало не смущенным отсутствием порядка и обилием неубранных арбузных корок. Он совсем не был похож на провинциального чиновника. Большой лоб, умные вдумчивые глаза с явно выраженным благородством, соединенным с уверенностью в себе и в то же время, если можно так выразиться, с классической скромностью. Сестра Велимира метнулась с чисто женским смущением навести хотя бы приблизительный порядок, но Велимир посмотрел на нее, как бы говоря – не беспокойся, это свой человек, он не осудит тебя, – и она успокоилась. Все осталось на своих местах, и если бы арбузные корки могли что-нибудь чувствовать, то они, вероятно, были бы очень обрадованы, что их не будут тревожить. Столовая в квартире Хлебниковых стоит перед моими глазами и сейчас, спустя почти полвека, сверкая своими красками, как бы покрытыми слоем густой, но каким-то чудом прозрачной пыли.