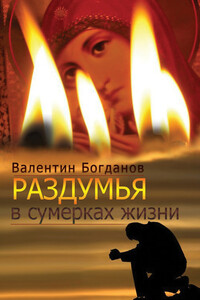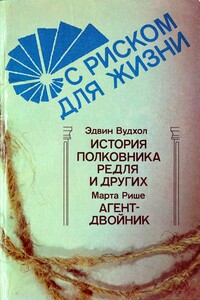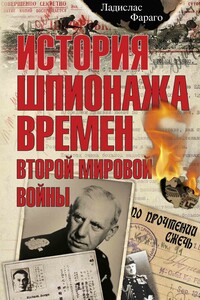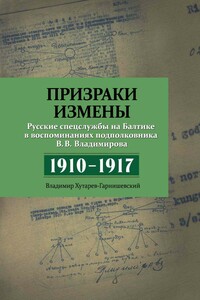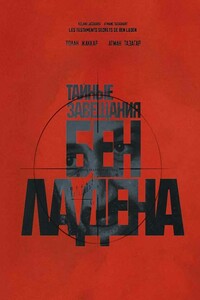Размышления о войне и о книге В. Суворова «Ледокол» | страница 52
Свидетельствует маршал артиллерии Н. Н. Воронов: «Война надвигалась с каждым часом, об этом сигнализировали донесения с границы, а в Наркомате обороны СССР обращали мало внимания на угрожающие симптомы. Никаких совещаний о возможной войне с Германией в наркомате не проводилось. Была самоуспокоенность и благодушие» [Воронов, 1963, с. 170]. То же самое пишет в своих мемуарах «Солдатский долг» маршал К. К. Рокоссовский: «Нередки были случаи пролётов немецких самолётов. Стрелять по ним категорически запрещалось. Так, в районе Ровно произвёл вынужденную посадку немецкий самолёт, задержанный нашими солдатами. В самолёте оказались четыре немецких офицера в кожаных пальто (без воинских знаков). Самолёт был оборудован новейшей фотоаппаратурой, уничтожить которую немцам не удалось (не успели). На плёнках были засняты мосты и железнодорожные узлы на киевском направлении. Обо всём этом было сообщено в Москву. Каким же было наше удивление, когда мы узнали, что распоряжением, полученным из Наркомата обороны, самолёт с экипажем приказано было немедленно отпустить в сопровождении (до границы) двух наших истребителей. Вот так реагировал центр на явно враждебные действия немцев» [Рокоссовский, 2002, с. 29–53].
Поражает нас сегодня невероятная самоуспокоенность сталинского руководства, будто впавшего в гипнотическую спячку в самый канун войны. Далее Рокоссовский продолжает: «Довольно внимательно изучая характер действий немецких войск в операциях в Польше и во Франции, я не мог разобраться, каков план действий наших войск в данной обстановке на случай нападения немцев. Судя по сосредоточению авиации на передовых аэродромах и расположению складов центрального значения в прифронтовой полосе, это походило на подготовку прыжка вперёд, а расположение войск и мероприятия, проводимые в войсках, этому не соответствовали. Нанесённый врагом неожиданный удар огромными силами и его стремительное продвижение в глубь территории на некоторое время ошеломили наши неподготовленные к этому войска. Они подверглись шоку. Чтобы вывести их из этого состояния потребовалось длительное время. Растерянности ещё способствовали причины военного и политического характера, относившиеся ко времени, отдалённому от начала войны. Из тех наблюдений, которые я вынес за период службы в КОВО и которые подтвердились в первые дни войны, уже тогда пришёл к выводу, что ничего не было сделано местным командованием в пределах его прав и возможностей, чтобы достойно встретить врага. Но о чём думали в Наркомате обороны, кто составлял подобные директивы, вкладывая их в оперативные пакеты и сохраняя за семью замками? Ведь их распоряжения были явно нереальными. Зная об этом, они всё же их отдавали, преследуя, уверен, цель оправдать себя в будущем, ссылаясь на то, что приказ для “решительных” действий войскам ими был отдан. Их не беспокоило, что такой приказ – посылка мехкорпусов в бой, означал их истребление. Погибали в неравном бою хорошие танкистские кадры, самоотверженно исполняя в боях роль пехоты»