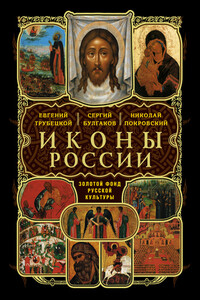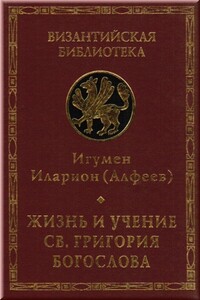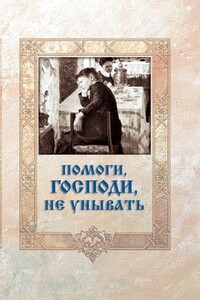Афонские встречи | страница 27
Величественный храм сей строился около тридцати лет: с 1867 по 1900 год, и израсходовано было 2 млн рублей. Приделы храма посвящены святому благоверному князю Александру Невскому и святой Марии Магдалине в память чудесного спасения государя Александра Николаевича в дни Всемирной выставки в Париже 25 мая 1867 года. Первый камень положил своими руками сын императора, великий князь Алексий, во время своего посещения Святой Горы в июне 1867 года.
Огромное пространство храма вызывает недоумение: неужели оно когда-либо могло быть наполнено, ведь на Афоне живут только монахи. Но в начале века на Святой Горе было около 4 тыс. русских, что весьма устрашало некоторых греческих националистов, потомки которых ныне считают революцию промыслительной для Афона: она-де освободила от русской колонизации. Слепцов хватает и среди греков. Тех, что предпочитают руины мощной православной молитве, пусть звучащей на другом языке — славянском. Да и руины не могут стоять вечно, и европейская «помощь» — логичное завершение этой истории.
Такое впечатление, что мы снова в России: вот иконы прп. Серафима, а вот — прп. Сергия Радонежского. Синодальный стиль иконописания, вышедший в современной Греции из употребления, здесь поражает своим величием. Византийский стиль настолько захватил нынешних греков, что для воссоздания росписей пришлось выписывать иконописца из России. Впрочем, позже в Москве, листая «Сообщения православного Палестинского общества» за 1906 год, я натолкнулся на поразившую меня заметку. Подписана она архим. Михаилом и называется «Искусство на Афоне». «На Афоне есть один очень поучительный… храм. Это Андреевский собор. В нем два храма: верхний и нижний; в верхнем — новая московская живопись, в нижнем — иконопись, прожившая чуть ли не тысячелетие. И вот в верхнем жалко и больно смотреть на стены. Мне стыдно было слушать, когда в моем присутствии расхваливали картину Алексия человека Божия, единственное достоинство которой было рубище и огромная дыра на его рукаве. Никакой религиозной мысли, дешевая ничтожная эффектность, не стоящая ломаного гроша». Но у нас нет таких ощущений. Наверное, потому, что мы не настолько хорошо разбираемся в живописи. Да, икона для нас в первую очередь — икона. Икона — это видение небесного мира, и каждый народ немного по-своему воплощал в красках это видение. Времена тоже вносили свои коррективы. Были разные эпохи, но иконы все равно остаются иконами и достойны почитания. К тому же воспоминания архимандрита совсем не подходят к Андреевскому собору. Здесь чуть ли не впервые в жизни не умом понимаешь, а чувствуешь всей глубиной дыхания былую мощь России. Православную мощь. Истина и сила — единственное, пожалуй, в истории соединение, которое казалось нерушимым и вечным. Не уберегли мы сокровенную сердцевину этой мощи, и пал гигант.