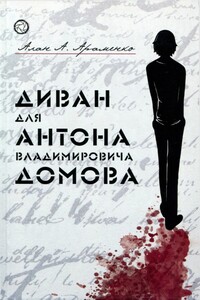Аппендикс | страница 88
Да вот беда, вроде бы (и не просто как тенор) он уже существовал, этот Макс. Бориса, сочиняющего чудаческую музыку, похожую чем-то на полиритмию самого Кшенека и на синкопы главного героя его оперы негра Джонни, считали ее женихом. Это была неприятная помеха, которая, по мнению Мирона, рано или поздно должна быть устранена. Пока же все время репетиций безраздельно принадлежало ему: он мог ловить ее взгляд, в перерыве приносить ей чай или накидывать шаль на плечи. Однажды он даже повязал ей свой шарф из протершегося шинельного сукна, в который всегда заворачивал скрипку. Вечером за Надей, как обычно, зашел композитор, а утром, отдавая шарф, она задержалась взлетом огромных серых глаз на лице Мирона. Да уж, нос на нем размещался прямо-таки выдающийся! Взгляд был какой-то слишком уж дерзкий, рот – как всегда смеющийся… И неужели он не понимал, что эти усики делают его еще более нелепым?! Уже через несколько секунд она разговаривала с Борисом, но за это время Мирон успел зацеловать ее до потери памяти, – памяти о Максе, о голоде, холоде, – войти в нее, войти в нее множество раз, содрогаться вместе, рассматривать тени на потолке, держа ее за руку, утром приготовить ей булочку с маслом и смотреть, как она ест, ударяясь ложечками с инициалами на ручке о тающие ледники кускового сахара в розовых чашках кузнецовского фарфора. Мирон нашел бы чай, масло и сахар. Ради Нади он смог бы найти что угодно, даже колодезь в пещере Асмодеевой, даже тайного червя Шамира, которым повелевал дух морской.
Последнее время Мирон жил только Надей, а до этого – только музыкой. Если он чем-либо увлекался, то только безмерно, целиком. Уже к тринадцати годам, играя по разным провинциальным городкам, как любой музыкант подобного калибра, он нарастил не только мозоли на подушечках пальцев, но и непробиваемое терпение. Отец-сапожник, когда-то мечтавший научить младшего сына мастерить башмаки, вместо этого заразил его скрипкой. Сам он неплохо умел играть на одной струне несколько песенок. Уже ко второму занятию оказалось, что Мирон способен воспроизвести не только их, но и вой выпи, щебет козодоя, цокот копыт и даже шумное сморкание деда Шмули. Увы, восхищение отца сыном-артистом было слишком кратким, и Мирон надолго остался непонятым. Тетя Рейзел говорила, что антонов огонь нашел на отца из-за того, что он, как если бы это был первый несправедливо обвиненный гоями[23] человек, принял слишком близко к сердцу дело Бейлиса