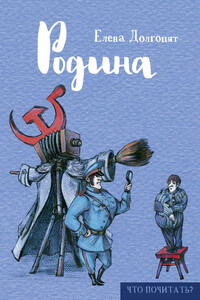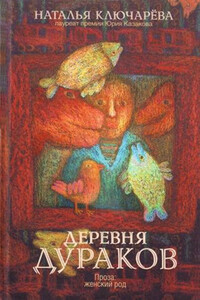Счастье | страница 98
Санька отняла от лица тельняшку. Медленно, как побежденный опускает флаг. И тут же вездесущая вонь хлынула в нее («Кто придумал, что ад пахнет серой? Он воняет тухлой капустой». – «Этот запах чувствуешь только ты»).
– Ида Моисеевна, умоляю, проснитесь! Я не могу дышать! Во мне не осталось ничего живого!
– Для мертвеца ты слишком сильно меня трясешь.
– Я не чувствую себя! Что делать?
– Стихи.
– Я ничего не помню! Помогите!
– Ну, слушай.
Ида Моисеевна тяжело вздохнула и, не открывая глаз, начала:
В тот момент, когда скрипучий, как старое дерево, голос Иды Моисеевны произнес слово «дорога», Санька вдруг без всяких усилий увидела перед собой его лицо. Спокойное и изменчивое, как вода в ветреный день. Насмешливое и нежное. Выученное наизусть и всегда незнакомое. Лицо, которое так трудно вспомнить здесь, за решеткой…
Он стоял на обочине, подняв большой палец. У ног его громоздился желтый чемодан, набитый ее рисунками. Машины неслись мимо, не останавливаясь. Белые крылья были в пыли.
Он словно почувствовал ее взгляд, обернулся и посмотрел прямо в глаза. Вопросительно, тревожно, совсем беззащитно. Будто говоря: «Я иду. Но путь мой далек. Сумеешь ли ты дождаться?»
– Плачешь, Александра? Значит, все нормально…
– А «Жди меня, и я вернусь» знаете?
– Конечно.
– Имейте совесть! Вам дня мало? Бубнят и бубнят свою заумь!
– Послушайте, Любовь. Это стихотворение вам тоже будет понятно. Вас на воле кто-нибудь ждет?
– Муж у меня, – вздохнула недавно подселенная к ним продавщица Любка. – На десять лет моложе. И дочь, сука, взрослая совсем. Как бы не снюхались там без присмотра…
– «Жди меня, и я вернусь, только очень жди…» – начала Ида Моисеевна.
– На оправку! – донеслось из коридора.
И новый день наотмашь ударил по глазам противоестественным светом голой лампочки. Санька привычно зажмурилась, но вместо всегдашнего отвращения вдруг испытала давно забытое чувство. Впервые за все это время ей остро, до зуда в ладонях, захотелось рисовать.
Побелкой на стене она изобразила Иду Бронштейн, и Любку, и печальную женщину Мирру, их вторую сокамерницу, которая, о чем бы ни бралась говорить, вскоре всегда произносила фразу «этот безумный мир».