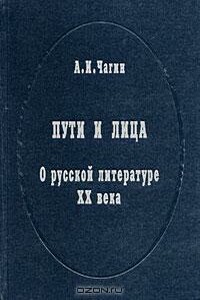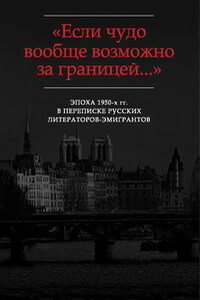Эволюция татарского романа | страница 47
В авторском повествовании встречаются характерные для прозы нового времени синтаксические фигуры. Автор естественным образом вводит в повествование синонимы, повторы: «Зал заполнился каким-то грустным, печальным, злобным, трагическим звуком» (С. 186); «Она начала причитать: “Уходи, уходи, уходи, уходи, ты пьяным пришел, ты ведь пьян!”» (С. 166). Как известно, Г. Исхаки любит писать предложениями с однородными членами. В этом случае могут быть использованы и отличающиеся смысловыми оттенками идеографические языковые синонимы, а также разговорные синонимы, имеющие в определенном контексте общий смысл. У исследователей соотношения между языковыми и разговорными синонимами, одна их особенность в языке Г. Исхаки вызывает особый интерес. Обратив внимание на эту особенность, И. Баширова показывает, как на протяжении всего творчества Г. Исхаки слово «моң»[1] использует в различных смыслах. Называя Г. Исхаки «печальным певцом татарской жизни», сплошь состоящей из этого «моң», она использование этого слова довольно основательно подразделяет на две группы. По ее мнению, если в одном случае, «моң», передает «понятия горя, плача, тягостной тишины, жалости и сожаления, несчастья», в другом случае, выражает «закат солнца, пение птиц, колокольный звон, чтение Корана, голос скрипки, кипящего самовара, веяние ветра» [49. С. 267].
В «Нищенке» слово «моң» чаще встречается в значениях, относящихся к первой группе: «Сагадат уснула в тягостной тишине» (С. 26); «В лучах печально струящегося света виднелась чаша, покрытая старенькой салфеткой» (С. 19); Тихая жизнь мулл, сопровождаемая обильными чаепитиями, сплетнями, обывательскими трапезами, по сравнению с жизнью, происходящей на театральной сцене, показалась некрасивой, унылой, неинтересной» (С. 151); «Деревенский люд ныне от холода впал в уныние» (С. 193). Как видно из приведенных примеров, слово «моң» стоит в одном ряду с понятиями горе, гнетущая тишина, сожаление, несчастье.
Освещая в романе революцию 1905–1907 гг. и участие в нем татар, автор для описания этих сложных событий использует различные приемы и средства. В связи с этим в авторском стиле совершенно естественно воспринимаются элементы общественной публицистики, революционной риторики:
«Весь зал стал кричать: “Конец полиции!”, – собрание закрылось еще сильней звучащей “Марсельезой” и другими революционными песнями» (С. 183); «Вот опять пошли сильные, страстные выступления, были сказаны решительные слова, приняты резолюции. Вновь на всю округу раздалась мощная “Марсельеза”. Голосовые связки все более распалялись. Когда всех охватила радость, кто-то крикнул: “Полиция!”. Голос прозвучал как гром, из-за понимание того, что власть, которая, казалось бы, “только что кончилась, навсегда кончилась”, никуда не делась, в одних пробудила страх, в других злобу» (С. 183).