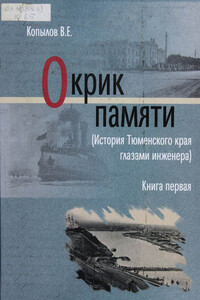Литературная Газета, 6583 (№ 03/2017) | страница 22
Когда рассуждают о новом Союзе писателей, говорят всегда вообще, не касаясь частностей, не желая представить, что это будет на деле, как это может быть организовано. А зря. Потому что в деталях кроется подвох, прячется дьявол. И подумать в первую очередь следует не о том, какой нужен союз и кто его будет финансировать, а о том, как разорвать порочный круг групповщины и компанейщины, как вытащить из тени действительно хороших писателей, как покончить с медийностью в литературе, остановить процесс превращения литературы в show-business и начать наконец оценивать произведения по текстам, а не по мелькающим за ними авторским образам.
Лирическое оправдание бытия
Лирическое оправдание бытия
Литература / Литература / Скоровищница
Смирнов Владимир
Фото: РИА Новости
Теги: память , Владимир Соколов , поэзия , литература
Выдающийся русский поэт никогда не был в моде
Двадцать лет назад, в январе 1997 года, ушёл из жизни поэт Владимир Николаевич Соколов. Не дожив до своего 70-летия. В памяти многих он остался молодым, изящным, светлым человеком.
Соколов, без всякого преувеличения, один из самых чудных, самых тонких, самых природно-подлинных русских лириков второй половины ХХ века. И при жизни, и вплоть до наших дней он никогда не был в моде и в шумной славе, с ним особенно и не носились. Ну и слава богу! В старину было такое – применительно к поэзии – выражение: «поэт Божией милостью». Владимир Соколов, даже в весьма безбожное время, – а он начал печататься в начале 40-х – конце 50-х годов, – был именно таким поэтом. Доказательств тому много. Вот, к примеру, один из его лирических шедевров, написанный в конце 60-х гг. Вещь совершенно исключительная. В ней воплощено и редкое дарование поэта и, более того, оправдание бытия, свидетельство подлинности и неслучайность мира, России, человека.
Пластинка должна быть хрипящей,
Заигранной…
Должен быть сад,
В акациях так шелестящий,
Как лет восемнадцать назад.
Должны быть большие сирени –
Султаны, туманы, дымки.
Со станции из-за деревьев
Должны доноситься гудки.
И чья-то раскрытая книга
Должна трепетать на столе,
Как будто в предчувствии мига,
Что всё это канет во мгле.
Порой можно услышать: «Ну а что такого особенного сделал Соколов? Вот писал он о московских двориках, переулках, о летящем лёгком снеге, о дождиках… Да и вообще он – поэт дачи, предместий». Он будто миновал все изломы, потрясения эпохи, современником которой он был.
Когда-то Бунин – а Соколов любил его, и прозаика, и поэта, – написал: «Великие русские поэты присутствовали в моей жизни как живые люди». Это замечательно: как живые люди! Не просто как образчики или примеры, а в полноте жизненного удела. Тот же Бунин как-то заметил, что «никакой отдельной от нас жизни природы нет: каждое движение её есть движение души». И Владимир Соколов в своей поэзии улавливал, запечатлевал – с редкой гармонической волей, свободой, точностью и простотой – душу природы и времени, а не просто время и природу. Душу снега, душу дождя, душу души… Вот потому уже на закате своих дней он написал, что «поэзия – это труд души и совести». «Поместить человечью душу в пространство и всесплетения поэзии» чрезвычайно трудно по очень многим причинам. Поэтому так отчётлив в лирике Соколова особый, зачастую горький тон человечности и мгновенности почти всего на земле.