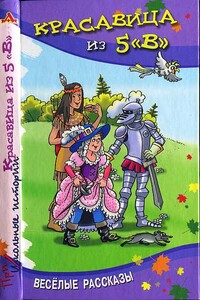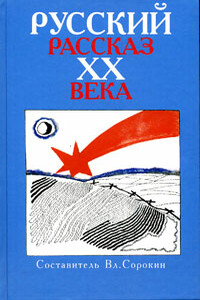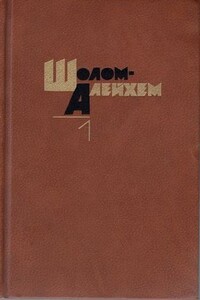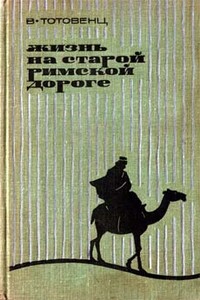Дары волхвов. Истории накануне чуда | страница 14
Скрудж не понял бы трех часовых четвертей, не понял бы и четвертой, если бы, зазвонив, она не напомнила ему об ожидаемом им посещении.
Он лег опять на постель и решил не спать до тех пор, пока на колокольне не прозвонит последняя четверть: заснуть – значило бы поглотить месяц. Решительность Скруджа была, по крайнему нашему убеждению, весьма разумной.
Эта четверть часа показалась ему такой долгой, что он засыпал несколько раз, сам того не замечая и не слыша, как били часы. Наконец он услышал: «Динь! Дон!»
«Четверть!» – понял Скрудж.
«Динь! Дон!»
– Полчаса, – сказал Скрудж.
«Динь! Дон!»
– Три четверти! – прошептал Скрудж.
«Динь! Дон!»
– Час! – крикнул восторжествовавший Скрудж. – И никого!
Он проговорил это, пока били часы, но не затих еще последний удар – глухой, тоскливый, похоронный, – как комната залилась ярким светом и кто-то отдернул занавески вокруг постели. Но не те, что были за спиной, не те, что были в ногах, а те, что были возле лица…
Скрудж приподнялся – и лицом к лицу предстал перед ним таинственный посетитель, отдернувший занавески.
Фигура была странная… Похожа на ребенка и на старика, что-то сверхъестественно среднее, что-то такое, что получило способность скрывать свой рост и прикидываться ребенком. Волосы у него обвивались около шеи и падали на спину, седые, будто и в самом деле от старости, а на лице не было ни морщинки. Кожа была свежа, как у ребенка, а длинные руки красовались мускулистыми кистями – признак необыкновенной силы. Голые ноги и икры были у него так развиты, как будто бы легко и бесчувственно нес он на них все бремя жизни. На нем была белая-белая туника, перетянутая ярким блестящим поясом.
В руках он держал зеленую ветвь остролиста, только что срезанного и, вероятно ради противоречия этой эмблеме зимы, усеянного всевозможными летними цветами. Но что еще страннее было в его одежде – то, что поверх его головы сверкало сияние, озарявшее, вероятно, в минуты радости и горя все мгновения жизни. Свет этот исходил, как я уже сказал, из его головы, но он мог его погасить, когда хотел, большой воронкой, или чем-то, на нее похожим, – воронкой, прижатой под мышкой.
Тем не менее этот инструмент, какой бы он ни был, не привлек исключительного внимания Скруджа. Занял его, собственно говоря, пояс: то там блеснет, то здесь, то потухнет, и вся физиономия его обладателя принимает соответственное выражение. То существо однорукое, то – одноногое, то – на двадцати ногах без головы, то – голова без тела: члены исчезали, не дозволяя видеть перемены в своих причудливых очерках. А потом он снова становился самим собой, больше чем когда-нибудь.