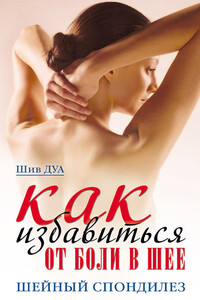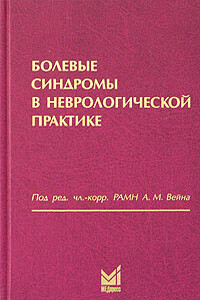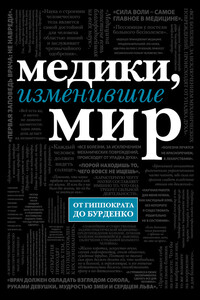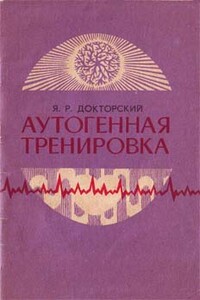Человеческий суперорганизм | страница 76
Прецизионная медицина — во многом продолжение персонализированной медицины, а потому эти термины часто используются как синонимы. Прецизионная медицина появилась в США в январе 2015 г. после президентского обращения, вслед за которым в журнале New England Journal of Medicine было опубликовано совместное заявление главы Национальных институтов здоровья и бывшего директора Национального института рака.
Как и персонализированная медицина, прецизионная медицина уделяет главное внимание индивидуальной изменчивости генов, воздействию факторов окружающей среды и образа жизни и подчеркивает важность использования этой информации для совершенствования профилактики и лечения болезней. Кроме того, отмечается важность использования большого количества данных как способа выявления тенденций в развитии болезней и сведения этих данных в единую картину в соответствии с особенностями конкретного пациента. Фактически прецизионная медицина связывает воедино информацию о наших генах, прошлом опыте и наших биологических особенностях с данными, хранящимися в нашей электронной медицинской карте.
В ближайшем будущем прецизионная медицина сосредоточится главным образом на одной категории болезней — раке, в частности на идентификации человеческих генов, ответственных за развитие опухолей. Другим приоритетным направлением станет использование интернет-технологий и социальных сетей для совершенствования диагностического обследования и лечения пациентов, а также для удовлетворения постоянно растущего желания американцев активно общаться с медиками как с равноправными партнерами.
Далеко не все относятся к прецизионной медицине как к волшебному эликсиру от всех болезней. Так, нередко ее критикуют за сильно упрощенный подход к человеческому здоровью. И будет очень грустно, если ключи к его улучшению лежат совсем не там, где их собирается найти прецизионная медицина.
У персонализированной и прецизионной медицины есть и еще один серьезный недостаток — их слишком сфокусированность на человеческом геноме, то есть генах, свойственных нам как млекопитающим. Проблема здесь в цифрах. Все свои медицинские инициативы мы направляем всего-навсего на сотую долю общего генома нашего суперорганизма, то есть лишь на 1 % всех наших генов. А такого быть не должно.
Если наш микробиом составляет примерно 99 % всех генов и при этом он легко управляем, с какой стати нужно сосредотачиваться лишь на их сотой доли только потому, что они сидят в человеческих хромосомах? А как же остальные 99 % генов, находящихся в микробах нашего кишечника, дыхательных путей и кожи? А если к тому же учесть, что переключения генов (эпигенетика) контролируют значительную часть активности генов человеческих хромосом, станет ясно, что решение медицинских проблем мы, похоже, собираемся искать совсем не там, где нужно.