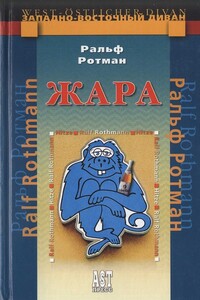Театральная история | страница 37
Поезд притормаживает, впускает новых пассажиров, и механический голос оповещает нас: "Тверская". Наш вагон пополнился еще одним героем – это молодой человек, франтовато одетый. Джульетта могла бы полюбить такого? Нет, слишком он правильный, слишком самодовольный. Такой не возьмет в руки шпагу, чтобы заколоть врага. Такой не умрет от любви – он, скорее всего, посмеется над тем, кто так нелепо умер. Он похож на Париса – самовлюбленного Париса, уверенного, что он осчастливил Джульетту предложением руки и сердца. Не знаю, как там насчет сердца, но руки, его короткопалой руки, его холеной руки Джульетта не приняла бы. Ни за что. Я представил, как он протягивает ко мне эти руки, и меня передернуло. Нет!
Достаточно. Теперь можно закрыть глаза. Хорошо, что людям не дано читать чужие мысли, ведь я вижу луг, вижу замок, я бегу к маме, которая позвала меня, издалека замечаю кормилицу (руки, морщинистые руки!) – я люблю ее, пусть она и надоела мне своими непристойностями. Хотя, признáюсь, порой мне нравится их слушать…
…Я бегу и бегу, мои ноги легки, а мысли еще легче, ведь мне нет еще четырнадцати лет, я оказываюсь прямо перед мамой. (Прямая спина, гордый взгляд, и опять в ее руках книжка, название которой я никак не могу запомнить – наверняка там что-то ученое или моральное.) Мама мне говорит: "Ты засиделась в девках, пора подумать о замужестве"…
…Следующая станция – "Маяковская"… И вот бал. И – прикосновение. Кто этот юноша, одетый монахом: его лицо скрывает маска, зато слова… Они открывают нас друг другу. Я чувствую – навсегда:
(«Осторожно, двери закрываются».)
("Следующая станция «Белорусская».)
В первых же словах – желание! Первое же действие – поцелуй! И что же мне сказать? Тихо, обреченно, уже любя: «Мой друг, где целоваться вы учились?» («О вещах, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщайте машинисту».) Меня зовет мать (спина, достоинство), но я стремлюсь выяснить, кто был тот, одетый монахом, чьи губы совершили такое паломничество… я поверю во всех его богов, лишь бы он продолжал свои паломничества… и спрашиваю кормилицу (морщинистые руки) о каких-то не имеющих для меня никакого значения гостях – а этот кто? А тот? И небрежно – с замиранием сердца – добираюсь до моего паломника. Что? Ромео? Ты шутишь? Нет. Сын врага. Ромео.
Я открываю глаза и вижу, что почти все герои моего воображаемого спектакля вышли из вагона.