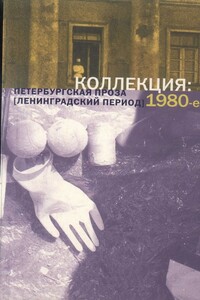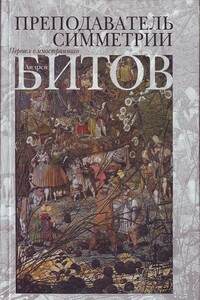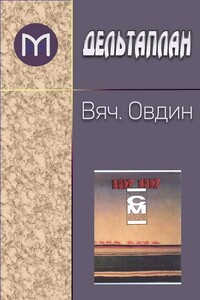Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е | страница 8
Этот «порочный круг» был спасательным кругом петербургской культуры, заменой канувшего в небытие петербургского периода русской истории. Герой новой прозы шестидесятых — олицетворенный наследник «чудака Евгения», того, что «бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет», и, конечно, пушкинского, неизвестно чем кормящегося самолюбивого обитателя Коломны.
В этом нельзя усомниться, обратившись, скажем, к героям Рида Грачева, к его петляющему на велосипеде вокруг Медного всадника простодушному Адамчику. Сформулировать, что такое нравственный императив, он не смог бы. Тем органичнее проступает сквозь образ авторское тавро: простодушие — в природе нравственных вещей. Особенно в век, когда гражданские свободы превращаются в звук пустой в устах лицемерных граждан. Для того чтобы в молодости набрести на этот мотив как литературно значимый, нужно было начитаться не одного Пушкина, но и его в этом вопросе предтечу — Вольтера.
Адамчик — работяга с мебельной фабрики. Немногим более преуспели в ленинградской жизни сами прозаики, возведшие подобного героя в перл создания. По выражению Владимира Арро, большинство писателей тех лет явились в литературу из «массы торопливо жующих младших научных сотрудников и инженеров» (Арро, разумеется, не исключает себя из их числа). А когда сами они и не принадлежали к итээровской прослойке, то все же не забывали героя своего к ней пристегнуть, как, например, Вольф в публикуемом рассказе «Как-никак лето». Забавно, что еще один прозаик, сделавший мысль о незаметном существователе северной столицы нервом своей прозы, — Борис Рохлин — из филологов сам подался в какие-то клерки одного из бесчисленных патентных бюро, а другой — Борис Дышленко — озаглавил цикл повестей выражением, самим за себя говорящим: «На цыпочках».
Тут-то интрига с возникновением новой питерской прозы и должна быть обнажена. По всей видимости, мы имеем дело с возрождением в ней «маленького человека», традиционного героя русской литературы, вроде бы окончательно пришибленного советским агитпропом. Возникает вопрос: а что, если это сам «маленький человек», собственной персоной, рванул на себя литературную дверь, так сказать, очнулся после вековой летаргии?
И чего это так радуется герой повести Битова «Сад»:
«„Господи! Какие мы все маленькие!“ — воскликнул странный автор. „Это так! Это так!“ — радовался Алексей».
Подобная радость, пожалуй, никому, кроме как новому питерскому герою, в русской литературе ведома не была.