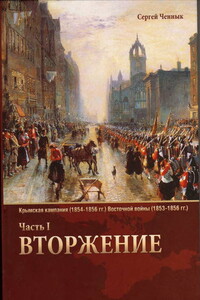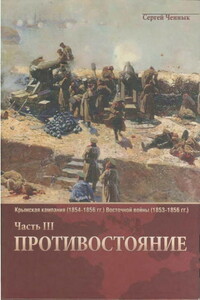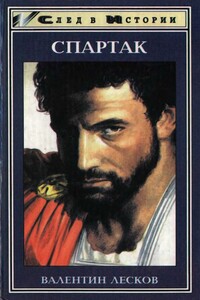Последний штурм — Севастополь | страница 16
Для организации такой составляющей кампании была накоплена к тому времени не только база многолетнего практического опыта, но и разработана теоретическая основа. Незадолго до Крымской войны, в 1850 году, для Академии Генерального штаба полковником Вуичем был написан учебник «Малая война». Эта работа была не чем иным, как продолжением труда известного специалиста по действиям в тылу противника и его коммуникациях — генерала Д.В. Давыдова «Опыт теории партизанского действия», вышедшего в 1822 г. В ней впервые и появился термин «малая война» и ее теоретическое обоснование.
Именно во время Крымской войны у русского командования были все возможности организовать таковые действия против союзников. Но в Крыму кавалерия русской армии с упорством, достойным лучшего применения, демонстрировала примеры того, как не нужно воевать. Успехи ее были единичными и малозначительными.
Примечательно, но памятный по событиям 1812 г. Дамоклов меч «дубины народной войны» в сознании союзников имел место. В ходе кампании в Крыму «…французские генералы снова вспомнили опасность и уроки русской партизанской войны.
Когда французское правительство попыталось развить успех англо-французских войск после взятия Севастополя и спланировать наступление вглубь России, главнокомандующий французской армией генерал Пелисье заявил, что уйдет в отставку, если ему прикажут начать маневренную войну. Он отчетливо представлял невозможность обеспечения безопасности коммуникаций на столь огромной территории, начиная от Черноморского побережья, предвидя партизанские действия русской армии. Именно поэтому война ограничилась, по выражению Ф. Энгельса, этим «закоулком России», т.е. полуостровом Крым».>{36}
Сегодня остается лишь констатировать, что русское командование этой возможностью использования партизанской войны не воспользовалось, как и другими возможностями. С начала 30-х годов XIX в. в военном искусстве императорской России «идет процесс затухания интереса к специальным действиям».>{37}
Понимание ошибочности этого положения дел пришло лишь после протрезвления армии, вызванного проигранной Крымской войной. В 1859 г. военный ученый генерал Н.С. Голицын забил тревогу по поводу утраты русской армией опыта организации и ведения партизанских действий в тылу противника: «Преподается ли у нас где-либо теория партизанской войны вообще и нашей русской в особенности, хоть в самых тесных размерах?… К сожалению, нет».>{38}