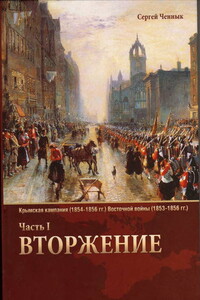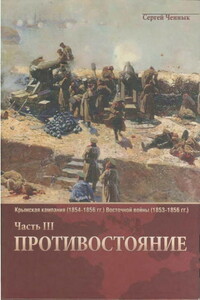Последний штурм — Севастополь | страница 14
Немцы первыми усвоили необходимость гибкости в отношении тактических принципов войны: «В области тактики нет ничего постоянного; положения ее периодически меняются; армия, упорно придерживающаяся раз установившихся воззрений, не может считаться здоровой» — считал прусский генеральный штаб.>{32}
Попав в аналогичную ситуацию в 1870–1871 гг., когда 15,44 мм казнозарядные ружья немцев системы Дрейзе хоть и были значительно скорострельнее французских дульнозарядных ружей Шаспо, но 11 мм пуля последних имела более высокие баллистические характеристики, прусские военачальники в кратчайшие сроки поменяли принципы применения пехоты. В результате французы, открывая огонь на дистанцию до 1800 шагов, не могли нанести существенных потерь рассыпавшимся в цепи пруссакам, те же, в свою очередь, с дистанции менее 600 шагов просто «давили» пехоту французов за счет превосходного темпа стрельбы.>{33}
Таким образом, в вопросе — что было главными причинами поражений русских войск в полевых сражениях Крымской войны, в том числе и в сражении на Черной речке, ответ может быть однозначным — отсталость тактики и косность мышления большинства русских военачальников.
К сожалению, русские генералы 4 августа 1855 г. не учли того, что в дальнейшем Мольтке сделал аксиомой: «Нет более невыполнимой задачи, чем наступление по открытой местности против противника, оснащенного всеми видами оружия, в том числе мощной артиллерией и расположившегося вне этой местности». Горчаков в этот день сделал все, чтобы эту истину опровергнуть. Результат известен — тысячи трупов русских пехотинцев и никакого успеха…
Часто цитируемый мною Мольтке предупреждал, что «…отвага, самая яркая, обречена на неудачу не только перед рвом с водой, но и перед совершенно открыто развернутой боевой линией…». Увы, не могли генералы наши читать Мольтке, ибо он писал это, разбирая их ошибки. Русского же Мольтке среди них в августе 1855 г. не нашлось. Не появился он и после войны. Вот и получилось, что по справедливому замечанию известного французского генерала Негрие, «русская армия не захотела воспользоваться ни одним уроком последних войн».>{34}
Но могли ли воевать по-другому одуревшие от крепостного разврата, роскоши, уничижения зависимых от них крестьян в своих поместьях генералы эпохи Николая I? Для них солдат оставался тем же крепостным, который волею всевышнего (или барской) был одет в мундир и превращен в великолепно вымуштрованную «боевую машину», его можно было гнать под картечь не считая. Учет потерь в русской армии был приблизителен. Из всех армий, воевавших в Крыму, хуже был учет павших разве что у турок.