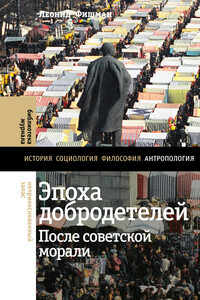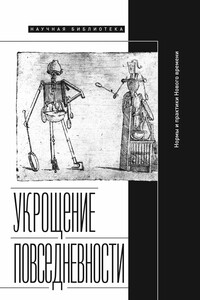От слов к телу | страница 18
Разбирая операторскую работу в эпизоде штурма шведской крепости, Я. Бутовский замечает, что на крупных планах здесь Петр впервые освещен сильным источником света слева, в то время как подавляющее число крупных планов царя в других эпизодах освещено с противоположной стороны.
«Свет слева делает Петра „непохожим“, — пишет Бутовский. — А в сцене штурма крепости он „похож“, несмотря на левый свет. И даже очень „похож“!
Понять причину этого интереснейшего явления можно, исходя из учения Эйзенштейна о пафосе, о патетической композиции, о передаче на экране экстатического состояния»[60].
Далее исследователь цитирует знаменитый кусок об экстатической композиции из «Неравнодушной природы»: «Мы обнаружили, что основным признаком экстатической композиции оказывается непрестанное „исступление“, непрестанный „выход из себя“ — непрестанный скачок каждого отдельного элемента или признака произведения из качества в качество, по мере того как количественно нарастает все повышающаяся интенсивность эмоционального содержания кадра, эпизода, сцены, произведения в целом»[61]. Скачок этот, по Эйзенштейну, «чаще всего достигает диапазона скачка в противоположность»[62] — блестящим примером чего служит освещение крупного плана Петра источником, расположенным слева, а не справа. Это соответствует и драматургическому скачку (отступление переходит в наступление), и тональному (внезапное появление белого флага сквозь клубы черного дыма)… Впрочем, анализ этого эпизода дан в монографии Бутовского столь исчерпывающе, что нам приходится едва ли не конспектировать его. Поэтому отсылаем читателей к первоисточнику[63]. Нам в данном случае важна лишь близость экстатической композиции в картине Петрова и Горданова и теоретических работах Эйзенштейна.
Более того, Горданов в «Петре» сумел добиться того, что не удалось осуществить постоянному оператору Эйзенштейна Эдуарду Тиссэ в «Александре Невском». Это в свое время точно уловил оператор М. Каплан: