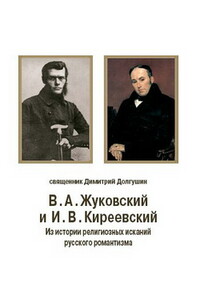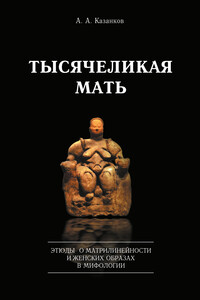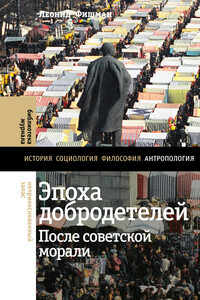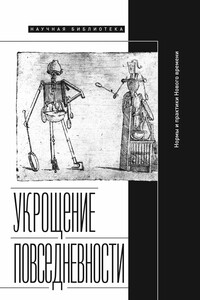От слов к телу | страница 16
Несмотря на наличие отдельных хороших игровых кусков, в „Фрице Бауэре“, по существу, преобладало „монтажное“ использование актера[48], превращаемого в пассивный материал съемок. На практике ставился знак равенства между актерами и „типажом“. Актеры использовались с точки зрения их типажных данных. Эмоциональное воздействие кадра достигалось целиком за счет оптических средств операторского искусства. Вот два характерных примера.
Передний план заполнен огромной — во весь экран — фигурой человека с палкой в руке; в глубине кадра — мальчик, забившийся в кресло. Кадр строился на контрасте гигантского силуэта и крошечной, освещенной фигуры ребенка.
Абсолютно пустая комната, голые стены. Невидимый источник освещает женщину и ребенка, сидящих подле пустого стола. Группа композиционно уравновешена пустым пространством изображения, подчеркивающим одиночество людей.
В. Петров ставил застывшую группу людей перед объективом, „лепил позы, снимал и затем переходил к следующей, столь же статичной, группе“»[49].
О «Плотине»:
«Для обрисовки людей колхозной деревни применялся другой прием: преобладали застывшие своеобразно монументальные кадры. Люди стояли, повернув голову то в одну, то в другую сторону. Самый поворот головы, освещение говорили об ужасе перед мыслью быть оторванными от родины, об отчаянии.
Между кадрами шли скреплявшие их титры. Надписи самостоятельно вели тему. Надписи перебивались иллюстративными кусками. Внутри эпизодов ничего не происходило, да и эпизодов, если подходить к ним с драматургической меркой, не было: фильм рассыпался на отдельные статичные зарисовки. Некоторые кадры приобретали характер символов»[50].
Итак — действительно, смена статичных кадров как основной принцип. Но все-таки кадров, а не поз. Так ли уж это далеко от исканий Эйзенштейна?
В мемуарах Леонида Оболенского есть интереснейший рассказ об эйзенштейновском «чтении» произведений изобразительного искусства. Например, японской графики:
«Сергей Михайлович показывает гравюру за гравюрой.
— Видите? Лицо анфас, а губы в профиль! Спокойный овал лица, а нос „уже в профиль“ — и лицо „поворачивается“!
Отдельные части лица, фигуры даны в разное время протекания движения»[51].
Подобным же образом анализировалась «Игра в снежки» Домье:
«Человек, которому снежок попал в лоб, весь точно сломался по сочленениям. Снежок сбил шляпу, но она еще не свалилась с головы. Балансируя, человек руками взметнул в противоположную сторону. Зигзаг пробежал по всему телу и уперся на мгновение в неустойчивую, поскользнувшуюся ногу. Человек падает.