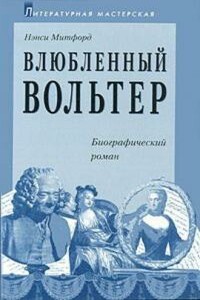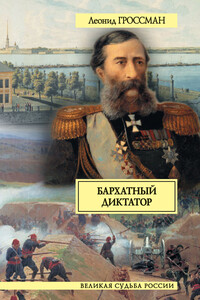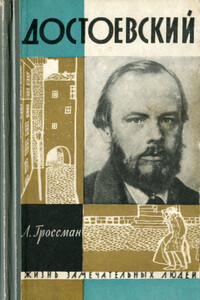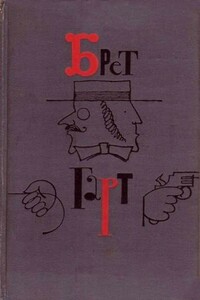Цех пера: Эссеистика | страница 22
Этим достигается полное обновление ритма. Здесь нет ни одной строки, свободной от пэонизации, а в большинстве из них пэоны встречаются дважды. В шестнадцати строках здесь имеются двадцать три пэона, так что, строго говоря, ни один из стихов этой элегии не подходит под тип классического александрийца (не являясь шестистопным). Так достигается уже не просто отступление от классического канона александрийца, но его глубокое внутреннее преображение. Метрически обязательная шестистопность стиха сменяется делением на четыре стопы, а в ритмическом отношении стих получает медлительную плавность и перестает быть «извилистым, проворным, длинным, склизким».
Одновременно с этой элегией Пушкин пишет фрагмент «Нереида», в стихе которого не трудно заметить признаки такого же обновления александрийцев обилием пэонов, частыми enjambements и систематическим нарушением законов срединной цезуры. Этим отличаются все пушкинские александрийцы этой эпохи.
(Дорида, 1820 г.).
(там же).
(Нереида, 1820 г.).
(Дева, 1821 г.).
(Муза, 1821 г.).
Аналогичными примерами изобилует элегия «К Овидию» (1821).
Уже ранняя критика, совершенно не задававшаяся целями изучения пушкинского стиха, и почти не вникавшая в сущность и тайны его метрики, почувствовала полное обновление александрийца в его ранних антологических опытах. С замечательной зоркостью Белинский по поводу стихотворной фактуры «Музы» писал: «Нельзя не дивиться в особенности тому, что он умел сделать из шестистопного ямба, этого несчастного стиха, доведенного до пошлости русскими эпиками и трагиками доброго старого времени. За него уже было отчаялись, как за стих неуклюжий и монотонный, а Пушкин воспользовался им, словно дорогим паросским мрамором для чудных изваяний, видимых слухом».
Таким образом Шенье своим обновленным размером, который сразу же сказался на пушкинских переводах и подражаниях, первый научил его обращаться свободно с неподвижным александрийцем XVIII века, разбивать его, выгибать и завязывать на новый лад[13].
Вскоре урок, данный Шенье, был углублен и укреплен новым воздействием. На литературном горизонте появились «Hugo с товарищи», и стихотворная форма французских романтиков закрепила в поэтике Пушкина метрические завоевания лирики Шенье.