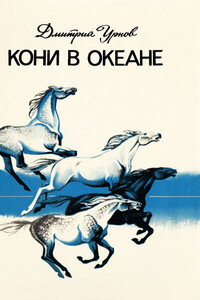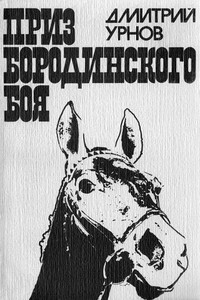Робинзон и Гулливер | страница 54
Стивенсон на себе проверил, что такую легенду создать возможно и как полноправный том в собрании сочинений она будет действовать на читательское воображение[30]. Но он же понял, что никакие рискованные эксперименты не способны воссоздать «голоса самой судьбы». И для нас это существенно, потому что понято это было Стивенсоном на фоне «Робинзона Крузо» и судьбы Дефо.
Когда в 70-х годах прошлого века Джозеф Конрад ушел в матросы, это было уже только личное, в самом деле лишь страсть и прихоть, эксперимент над собой и обстоятельствами. Как бы глубоко ни внедрился Конрад во флот, насколько бы он в действительности ни стал моряком, дослужившись до капитана, море сжалось для него до экспериментальной площадки. Поэтому все, что ни испытал он даже с крайним риском для жизни и ни описал потом с превеликим мастерством, несет на себе печать прихоти, придуманности, нарочитого конструирования «проблем» и «сложностей». Лишь иногда, в нескольких небольших вещах изо всего им написанного, интонация делается естественной и глубокой, когда проблемы не экспериментально поставлены, но истинны.
Искусственность Конрад чувствовал. Из книги в книгу, от своего собственного лица или через героев, повторял Конрад символическую ситуацию: он в юности смотрит на карту Африки, где еще не прошел Ливингстон и оставались неизведанные края, стучит по карте пальцем и произносит своего рода клятву: «Вырасту и побываю здесь!» И вот ценой неподдельных опасностей, лишений, подлинного мужества прокладывает Джозеф Конрад путь к исполнению мечты, своего намерения. Он достиг цели и все же не исполнил задуманного, ибо не было в этом истории, а только личная дерзость, все та же прихоть — эксперимент, игрушечность. Получилось тускло. «Очарование пропало». Все было Конрадом выстрадано, кажется, всего-навсего затем, чтобы убедиться, что делать этого и не нужно было. Конрад имел, однако, мужество осознать и описать это. «… Жалкий пароходик, которым я командовал, стоял на причале у берега африканской реки… Поодаль, в середине речного потока, на черном островке, приютившемся среди пены взвихренных вод, слабо мерцал маленький огонек, и я благоговейно произнес про себя: „Вот оно, то самое место, о котором хвастался мальчишкой“. Огромная печаль охватила меня. Да, это было то самое место. Но…».
А следом, в конрадовском фарватере, не обращая внимания на силу и значение уничтожающего «но», а может быть, и потому, что иного выхода все равно не было, шло целое поколение писателей Запада 20-х годов XX века — на экспериментальные поиски «момента истины» и «точного слова» с готовностью «выстоять хотя бы в поражении»… Их постигало то же самое разочарование с той разницей, что не у всех в отличие от Джозефа Конрада хватало сил сознаться. Они еще более упорствовали в надуманности и экспериментальности, даже ценой жизни. Видимо, другой выход чреват был кое-чем пострашнее случайной смерти — самоуничтожением.