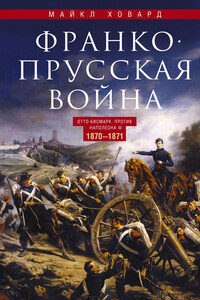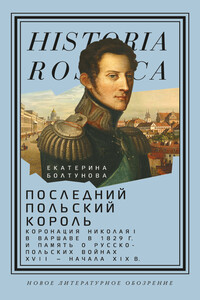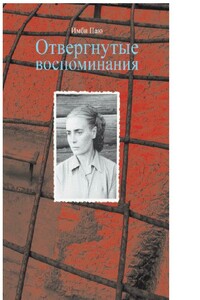Робинзон и Гулливер | страница 47
«Истинный гений приходит в мир, и его явление сразу становится заметным по тому, как все дураки ополчаются против него», — так сказал Свифт, отбросив бичом своего слога толпы педантов и насмешников. На кого он тратил силы? Он, кто видел к себе добро и участие, жертвенную верность в любви, перед кем заискивали вельможи и даже короли; он, кого так чтили друзья, невзирая на тяжелый его характер, кого поддержали дядя Стерна и дед Шеридана (в ту пору, когда будущие знаменитые писатели еще не явились на свет); он, кого все, с чьим мнением следовало считаться, без оговорок еще в молодости признали гениальным. На кого же он копит злобу?
«Вы глупы, Пилкингтон!» — сказал Свифт рядовому коллеге; «Безграмотный писака», — определил он идейного противника, который оказался Даниелем Дефо, — вот последовательность натуры. И это натура Свифта, написавшего «Гулливера».
Рукопись «Путешествий» утеряна. Известно только, что Свифт вынашивал свой шедевр долго, трудился над ним тщательно и что главный период работы над книгой пришелся на крайне тягостную пору в личной жизни Свифта. Последнее обстоятельство опять-таки очень показательно.
В другую эпоху, почти через полтораста лет после Свифта, его соотечественник, хорошо нам известный Р. Л. Стивенсон, написал небольшую, но глубокую повесть о природе человеческой. Он искусно разобрал некий «странный случай» с доктором Джекилем, который задался дерзкой целью определить, сколько же в нем, благородном и гуманном человеке, содержится зла? Опыт удался, и Джекиль воплотил свою подлость в маленьком, отвратительном существе — мистере Хайде. Свифт, можно сказать, проделал над собой иную операцию: созданием замечательной фигуры Гулливера он исторг из себя добро, все лучшее. И Гулливер, хотя, строго говоря, он человек нормальных размеров, в читательском мнении по справедливости стал гигантом.
Разве, однако, «Путешествия» не злая книга? Злющая. Дураки, подлецы, вообще вся нечисть, большая и малая, на которую равно тратил свою ненависть Свифт, беспощадно здесь выставлена. Но на тех же страницах на глазах у читателей злоба как начало преодолевается. Она преодолевается прежде всего простым и добротным складом натуры Гулливера. Его мнение, мысли, чувства, все его состояние целиком подчинены внутреннему рисунку, ясно выступающему вначале. Много часов Гулливер пролежал, по рукам и ногам связанный, и вот наконец его доставили в лилипутскую столицу, приковали к стене, обрезали веревки… Гулливер поднялся. На душе у него донельзя мрачно. И понятно: ноют затекшие члены. И взгляд его мрачен. Крики толпящегося где-то внизу и потрясенного народа еще больше усугубляют мрак. Гулливер прошелся, размялся, посмотрел вокруг и — «должен признаться, — говорит он уже совсем иным тоном, — мне никогда не приходилось видеть более привлекательного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом…», и Гулливер стал совсем другим, он забыл недавние тяготы своего положения, он всматривается в новый для него вид, который правильным чередованием садов, полей и перелесков, наверное, напоминает ему в миниатюре родную Англию. Мрак рассеялся — открылась перспектива.