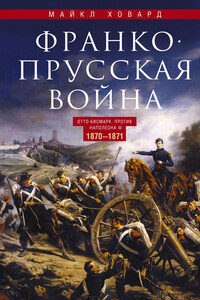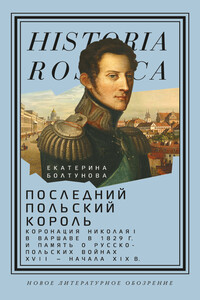Робинзон и Гулливер | страница 44
Все это путы, тиски буквальные, видимые, а сколькими обстоятельствами, обязательствами Гулливер связан символически, формально, какое давление, пусть нематериальное, но могучее и всестороннее, он испытывает! Постоянный надзор, толпы любопытных, угрозы нападения, интриги; его могут или отравить, или ослепить, или съесть. У лилипутов Гулливер «получает свободу» на основе договора из девяти пунктов, где с той же определенностью, что и длина цепи, означено: «Человек-гора не имеет права… должен… обязуется…» Опасности, да и небывалые звуки, запахи, новизна впечатлений, которые накапливаются у Гулливера во время удивительных странствий, держат его зрение, обоняние, слух, нервы в постоянном и до крайности повышенном напряжении. Наконец, Гулливеру суждено испытать неудобство и стыд еще от одной связи — его уличают в очевидном родстве с ужасными йеху. И это сходство тяготит его настолько, что он, вроде Мюнхаузеновой лисицы, только добровольно, готов выскочить из собственной шкуры и отречься от своего естества.
Однако если оставить пока в стороне этот последний, особенный случай, то надо сразу же признать, насколько просто и мужественно переносит Гулливер всевозможные стеснения. Стрелы тучей летят в него, выпущенные лилипутами, и жалят булавочными уколами. Характерен в этот момент жест Гулливера: он поднимает руку, стараясь сберечь глаза. Ни напряжения, ни отчаяния нет в его движении, он держит ладонь у лица так, словно решил заслониться от чересчур резкого солнца всего-навсего, а не спасти себя от тысячи чувствительных уязвлений. Свою историю Гулливер излагает обстоятельно и методически, мы тем более верим всему в его устах, что он не забывает ни событий, ни мелочей. Как проходило плавание, как очутился он в неведомой земле, как мог спастись, объясниться с туземцами, как он ел, пил и пр. В то же время Гулливер ни о чем особенно, прежде всего о своих лишениях, не распространяется и всякий раз с тактом опускает подробности, которые могут причинить читателю хотя бы подобие им самим испытанных неудобств, так же, как великодушно освобождает он от веревок отданных ему на расправу лилипутов. Выразительный, однако немногословный в речах, Гулливер не указывает прямо на источник такой нравственной выдержки. Но, кажется, можно догадаться, где он: в глубоком сознании своего положения — судьбы Гулливера, если взять это имя в значении, сделавшемся нарицательным. И вот Лемюэль Гулливер, корабельный врач, а потом капитан, подымается, как настоящий «Гулливер», как гигант, во весь рост, несмотря на то, что, таким образом он становится удобной мишенью для стрел, для насмешек, хотя ему и приходится, раз он Гулливер, влачить за собой груз бесчисленных обязанностей, долженствований, забот. Ни о прощении, ни о сочувствии, даже терпя позор, Гулливер не просит читателей, полагая, что его, по крайней мере, поймут, как вполне понимает совершающееся с ним он сам, Гулливер.