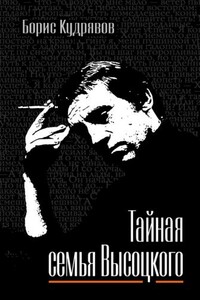Перестаньте удивляться! Непридуманные истории | страница 74
Не знаю, были ли довольны его ответами те, кому он их адресовал. Но сами ответы, несмотря на все описанные выше сложности, как правило, были блестящими.
Вот, например, один из них, особенно мне запомнившийся.
Как раз в то время исхитрились мы опубликовать в нашей газете несколько стихотворений Ахматовой. Было это по тем временам совсем не просто, и мы этой акцией ужасно гордились. Но она, разумеется, вызвала поток гневных читательских писем. Особенно сильное негодование вызвало стихотворение, в котором, как показалось многим, не совсем почтительно упоминался Блок:
Больше всего возмутило почитателей Блока, что их любимый поэт был в этом стихотворении назван тенором. Но читатель, письмо которого попало к Манделю, в дополнение к этому — массовому — негодованию добавил еще и свое, индивидуальное. «Не мог, — клокотал он, — никак не мог наш великий поэт улыбаться презрительно!»
Как всегда, подробно ответив на все обвинения этого запальчивого читателя, а заодно осветив и некоторые общие проблемы поэзии Серебряного века, в заключение своего обстоятельного письма Мандель коснулся и этого вопроса.
«Ну а о том, мог или не мог Блок улыбаться так, как говорится об этом в стихотворении Ахматовой, — писал он, — я думаю, ей лучше знать. Ведь улыбался он ей, а не вам».
На всякого мудреца…
Вдова поэта Николая Дементьева («Коля, не волнуйтесь, дайте мне!..»), по слухам, покончившего с собой из-за того, что его вербовали в стукачи, сама, кстати сказать, отсидевшая свой срок, рассказывала про такой свой разговор с Бабелем.
— Двух вещей мне не дано испытать, — сказал он ей. — Я никогда не буду рожать, и никогда не буду сидеть в тюрьме.
— Ох, Исаак Эммануилович, — вздохнула она. — Вспомните пословицу: от тюрьмы, да от сумы…
— Ну что вы, — сказал Бабель. — При моих-то связях.
Тогда, мне казалось, я знал…
Рассказывал К.Г. Паустовский.
Дело было в Ялте, в литфондовском Доме творчества. Он ездил туда чуть не каждый год. И сбилась у них там своя тесная компания: он, Гайдар, Александр Иосифович Роскин и кто-то еще, четвертый, кажется, Абрам Борисович Дерман.
А в тот год (дело было перед самой войной) жил там и Василий Семенович Гроссман.
Время было тревожное. Невеселое было время. Но они веселились напропалую. Шутили, смеялись, разыгрывали друг друга. А Василий Семенович, хоть он и был самым младшим из них (Паустовский был старше Гроссмана на тринадцать лет, Роскин — на пятнадцать, а Дерман — на четверть века) в этом веселье не участвовал. Держался особняком. Сидел как бирюк в своем номере и работал. И это их, естественно, слегка раздражало, поскольку такое его поведение было для них как бы немым укором. Он, быть может, вовсе даже и не хотел играть эту роль, но им казалось, что он слишком уж важен. Слишком исполнен сознания своей высокой писательской миссии.