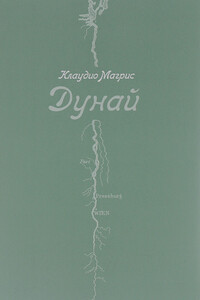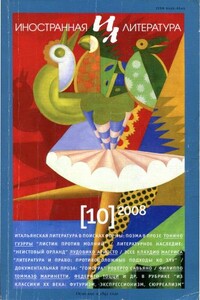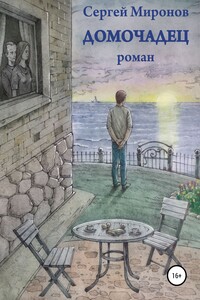Три монолога | страница 21
Что? Простите, я вас плохо слышу, господин Президент. И совсем не вижу вас в этих потемках… понимаю-понимаю, это не из-за скаредности заведения, просто почти все спят, я вовсе не возмущаюсь, этого только не хватало, это было бы неблагодарно с моей стороны, после того как вы дали ваше совершенно невероятное разрешение, истинная милость, и если я им не воспользовалась, так это только моя вина.
Наоборот, этот приглушенный, едва видимый свет мне нравится, мне кажется, что я на дне моря, где все неподвижно застыло, даже время. Мы любили нырять с ним вместе в темно-синюю воду, глубокую у самого берега нашего острова, может быть, только там, в глубине, в эти застывшие мгновения, долгие, как века, мы и были по-настоящему счастливы. И теперь здесь, в этих стенах, в этом почти абсолютном мраке…
То есть я хочу сказать, что я вас не вижу, господин Президент, и, не зная, где вы, видимо, смотрю в неверном направлении, потому что некоторые ваши слова ускользают от меня…
Ах, я спрашиваю себя, если со мной он вел себя так же, если бы я тоже была одним из его бедных цветов, нежных и увядших, позволила бы я себя выбросить?..
Ни за что, не сомневайтесь. Я — нет. Иначе бы он не взялся за это непосильное дело — прорваться сюда, добиться-таки Вашего разрешения, даже подумать страшно, что он совершил, я действительно никогда не слышала, чтобы такое кому-то удалось, а он сделал это ради меня, ради меня, которая была для него не сорванным цветком, а, как он говорил, пламенем, которое согревает душу, нет, обжигает ее, словно выдержанное терпкое вино, которым пытаешься утолить жажду, но после каждого глотка она становится лишь сильнее, словно иссушающим летом…
Я научила его всему, научила долго оставаться во мне, до и после, или ожидать, когда я разрешу ему войти в меня… и всему прочему. Когда мы занимались любовью, он был подобен морю, огромной волне, поднятой прибоем и обрушенной на берег, без меня он так и остался бы не мужчиной, а мальчишкой, одним из тех, для кого совершить любовный акт — все равно что высморкаться. Да, это я научила его всему. А не только любви.
Ей тоже, разумеется, но и всему остальному. Мужеству, верности, способности без боязни смотреть в темноту, быть мужчиной, а не самодовольным графоманом, который бахвалится тем, что отлично владеет пером, но которого ни в грош не ставят.
Он входил в меня, как меч, сладкий и могучий, господин, и раб, и партнер, — и все остальное — крыло сокола, рассекающее небо, запахи, мой, его, сырой земли, листьев в вихре ветра. С этим мечом в себе я больше ничего не боялась, и он тоже… в объятьях моих рук и бедер он забывал о своих страхах, а их у него было полно, он просто сбрасывал их с себя, как делал это с одеждой, когда мы, обезумев, падали в постель.