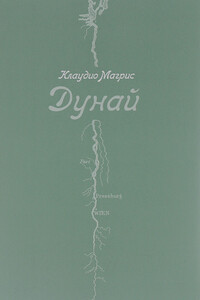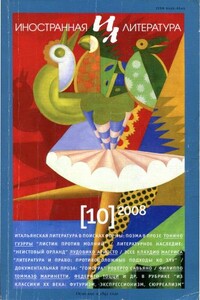Три монолога | страница 14
Аминь, Джерри, аминь всем и всему. Как я уже говорил, я не оспариваю его решение, если кто-то хочет выйти из автобуса, пусть выходит, если он предпочитает сделать это, выпрыгнув на ходу, не доезжая остановки, — его право. Кому-то может все надоесть, он может устать, кто-то не желает больше выносить все это дальше или еще по какой не известной мне причине — его право. Но когда я увидел его впавшим в депрессию из-за того, что он больше не может играть, как раньше, я сказал ему, просто чтобы подбодрить его, что он был великий музыкант, и он ответил, что ему мало того, что он был. Он хотел быть — неважно кем, музыкантом, влюбленным, кем угодно, но быть.
Именно в тот момент, дамы и господа, я понял, какая великая удача вообще родиться на свет, и что это случилось со мной, и какая удача иметь дядю, или деда, или любого другого родственника из Братиславы, или Львова, или Калочи[1], или из какой-нибудь другой дыры этой несуразной Центральной Европы, которая на самом деле есть ад, настоящее отхожее место, достаточно окунуться в ее удушливую атмосферу, почувствовать ее вонь, что одна и та же от Вены до Черновиц, но, по крайней мере, там никто не навязывает тебе быть, наоборот.
Ах, если бы Джерри, когда рука у него перестала действовать, понял, какое это великое счастье быть уже бывшим… когда ты свободен, езжай, куда хочешь, когда тебе великодушно дозволено больше не быть, не брать в руки гитару в качестве обязанности, ты свободен покинуть казарму жизни!
Но, видимо, ему это было не дано, потому что он не родился и не жил в том паннонийском[2], затхлом и плотном, как ватное одеяло, воздухе, не сиживал в той дымной остерии, в которой тебя отвратительно кормят и еще хуже поят, но ты прекрасно чувствуешь себя, когда снаружи льет как из ведра и дуют ветры — а снаружи, в жизни, дожди идут всегда, и ветры злы и безжалостны. Да любой бакалейщик из Нитры или Вараждина[3] мог бы научить всех живущих на Пятой авеню — за исключением тех, кто перебрался туда из той же Нитры, или из Вараждина, или из любой другой паннонийской грязной дыры, — счастью быть уже бывшими.
Да, на одной стороне эта сладостная скромная легкость быть уже бывшими, этот промежуток жизни, заключенный в неопределенные и гибкие временные рамки, где все легко как пух, а на другой — тяжко, убого и жуткая самонадеянная необходимость продолжать быть!
Речь не о каком прошлом, Боже упаси, и, тем более, не о ностальгии, она глупа и вредна, в самом слове «ностальгия» — боль возвращения. Прошлое ужасно, мы, сегодняшние, — варвары, грубые насильники, но наши деды и прадеды были еще хуже, жестокие и свирепые дикари. Вот уж точно, не хотел бы я жить в их время.