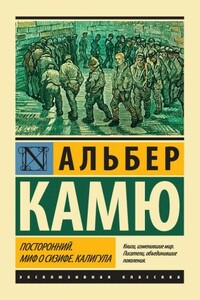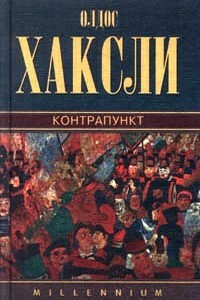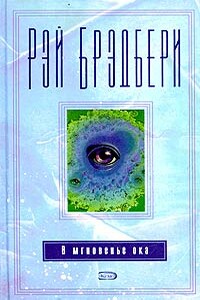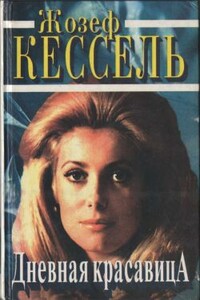Гений и богиня | страница 26
– пятьдесят процентов снятого молока и пятьдесят бурды из цикория, половина психофизической реальности и половина общеупотребительного словесного мусора. Мир Генри был устроен на манер хайбола. Он представлял собой смесь полупинты шипучих философских и научных идей и маленькой, с наперсток, дозы непосредственного житейского опыта, в основном сексуального. Былинки, ветром колеблемые, как правило, люди необщительные. Они слишком заняты своими идеями, своими переживаниями и своими психосоматическими болячками, чтобы сохранить способность интересоваться другими людьми – даже собственными детьми и женами. Они находятся в хроническом состоянии глубочайшего добровольного неведения, ничего ни о ком не знают, зато у них заранее готово мнение обо всем на свете. Взять хотя бы вопрос, как воспитывать детей. Генри с апломбом рассуждал об этом. Он читал Пиаже, он читал Дьюи, он читал Монтессори, он читал психоаналитиков. Все это было рассортировано и разложено по полочкам у него в мозгу, словно в картотеке, – только руку протяни. Но если требовалось сделать что-нибудь для Рут и Тимми, он или оказывался абсолютно беспомощным, или, чаще всего, просто исчезал со сцены. Потому что, конечно же, они докучали ему. Все дети ему докучали. Это относилось и к подавляющему большинству взрослых. А как же иначе? Мыслительные способности были у них в зачаточном состоянии, читали они полную чепуху. Что они могли продемонстрировать? Только свои сантименты да свою мораль, только мудрость по случаю, а как правило – плачевное ее отсутствие. Словом, только свою человеческую природу. Но как раз этой-то штукой, человеческой природой, бедняга Генри был органически не способен заинтересоваться. Между царствами квантовой механики и гносеологии на одном конце спектра и сексом да болью на другом лежала пустынная область, которую населяли одни призраки. И среди этих призраков семьдесят пять процентов относились к нему самому. Потому что собственная человеческая природа тоже оставалась для него тайной за семью печатями. Его идеи и его ощущения – о них-то он знал все. Но каков сам человек, у которого возникают эти идеи, который переживает эти ощущения? И каковы связи этого человека с теми вещами и людьми, которые его окружают? Какими, наконец, должны быть эти связи? Сомневаюсь, что Генри когда-нибудь приходило в голову поразмыслить на подобные темы. Во всяком случае, в тот раз не пришло. Его монолог не был мучительными метаньями супруга между любовью и подозрениями. Тогда он был бы чисто человеческим откликом на чисто человеческую ситуацию – и как таковой никогда не прозвучал бы в присутствии столь неопытного и бестолкового слушателя, совершенно неспособного сказать в ободрение что-нибудь путное, каким тридцать лет назад был юный Джон Риверс. Нет, реакция Генри оказалась явно недочеловеческой, и одною из подтверждающих это черт служил тот самый факт – верх чудовищности и неразумия, – что его речь произносилась в присутствии человека, которого не назовешь ни близким другом, ни мудрым советчиком, а всего только ошарашенным молодым недотепой с исключительно благочестивым прошлым и парой восприимчивых, хотя и готовых сгореть со стыда ушей. Ах, эти бедные уши! В них без передышки вливалась богато аргументированная наукообразная грязь. Бертон и Хевлок Эллис, Крафт-Эбинг и несравненные Плосс и Бартельс – все они, вместе с Пиаже и Джоном Дьюи, хранились на своих местах в картотеке, созданной Генри у себя в мозгу, и цитировались с мельчайшими подробностями. Но в этой области, как теперь выяснилось, Генри вовсе не устраивала роль кабинетного ученого. Он следовал научным рекомендациям в личной жизни, он систематически обращал теорию в практику. До чего же трудно вспомнить силу прежних табу, глубокую тайну, окутывавшую отношения полов, – ведь сейчас мы спокойно обсуждаем оргазм за тарелкой супа, а садистские сексуальные приемы – за вазочкой мороженого! Что касается меня, то все, о чем говорил Генри – техника любовного акта, антропология брака, статистика сексуального удовлетворения, – казалось мне откровением из бездны. Это были вещи, о которых порядочные люди не заикались, даже, как я наивно полагал, и не подозревали; вещи, которые годились для обсуждений и могли найти отклик только в борделях, на оргиях богачей, на Монмартре, в китайском или французском квартале. И вдруг я выслушиваю эти ужасные речи от человека, ценимого мною выше всех остальных, от человека, не знающего себе равных по интеллекту и научной эрудиции. И он связывал эти ужасы с именем женщины, которую я любил, как Данте любил Беатриче, перед которой преклонялся, как Петрарка перед Лаурой. Словно очевиднейшую вещь на свете, он утверждал, что у Беатриче ненасытные аппетиты, что Лаура нарушила брачный обет ради физических ощущений, которые легко мог вызвать у нее любой здоровый мерзавец с достаточным знанием вегетативной нервной системы. Даже не обвиняй он Кэти в неверности, его слова устрашили бы меня, ибо подразумевали, что эти ужасные вещи случаются не только благодаря измене, но и в обычной супружеской жизни. Вряд ли ты мне поверишь, – со смешком добавил Риверс, – но я говорю сущую правду. До рассказа Генри я не имел представления о том, что происходит между мужьями и женами. Вернее, представление-то у меня было, да только, как это ни грустно, ошибочное. Я считал, что в отличие от подонков общества порядочные люди сходятся лишь для того, чтобы зачать ребенка – раз в жизни, как сложилось у моих родителей, или дважды, как у Маартенсов. И вот передо мной, на краю своего катафалка, сидел Генри и говорил без остановки. Ясным языком гения, с ребяческой бестактной раскованностью говорил о непонятных и, на мой взгляд, страшно непристойных вещах, которые происходили под этим траурным пологом. А Кэти, моя Кэти, была его соучастницей – не жертвой, как я вначале безуспешно пытался убедить себя, а соучастницей, действующей с готовностью и даже с энтузиазмом. Ведь именно этот энтузиазм и дал ему повод подозревать ее. Потому что раз ее чувственность так откровенно проявлялась здесь, на домашнем катафалке, то еще откровеннее она должна была проявиться на Севере, в Чикаго, в альянсе с молодым врачом. И вдруг, к неописуемому моему смущению, Генри закрыл лицо руками и зарыдал.
Книги, похожие на Гений и богиня