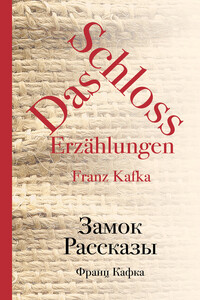Мальчик на коне | страница 8
Родители, кажется, не помнят и не имеют никакого понятия о том, как рано ребёнок начинается задаваться этим вопросом. Мне было около шести лет, когда я построил ту хижину, которая служила мне и вигвамом, и тайником. Это было надёжное место, где можно было прятаться от мира, раскинувшегося внизу, и наблюдать за ним.
Оттуда можно было наблюдать собак и кошек, птиц, цыплят, а иногда и людей. Это было великолепно: наблюдать за ними, не подозревающими того, что я, шпион, индеец, армейский разведчик вижу всё, что они делают. Досадно было лишь оттого, что они никогда не делали ничего особенного, да и сам я ничего такого не делал.
Мне уж становилось скучно там, как однажды большой мальчик, лет восьми-девяти, появился вдруг под моим деревом в поисках винных ягод. Он заметил мою хижину, затем увидел мои настороженные глаза.
- Чем это ты там занимаешься? - спросил он.
- Ничем, - буркнул я.
Он забрался на дерево, влез в мою хижину, оглядел её, одобрительно качая головой, затем уставился на меня. Я съёжился под этим взглядом. Не знаю почему, но в его взглядебыло что-то странное, гадкое и тревожное. Он ободрил меня, и когда я отошёл и успокоился в этой тёмной, тесной, скрытой ото всех хижине, он стал рассказывать мне, откуда берутся дети и показывать мне это. Всё это было так извращённо и беспомощно, грязно и возбуждающе: просто ужасно. Когда мы соскользнули вниз на чистую, залитую солнцем песчаную землю, я сразу же убежал домой. Мне было так стыдно, и я чувствовал себя таким грязным, что мне хотелось незаметно шмыгнуть в ванную. Но в гостиной, через которую мне нужно было пройти, была мать. Она улыбнулась и попыталась было ласково погладить меня. Ужас!
- Не надо, ну не надо же, - вскрикнул я и отпрянул в испуге.
- Ты что? В чём дело? - с удивлением и обидой спросила она.
- Не знаю, - пробормотал я и убежал наверх. Я заперся в ванной, не отвечая на зов и стук в дверь. Я вновь и вновь мыл руки и лицо до тех пор, пока не пришёл домой отец. Я подчинился его требованию открыть дверь, но не позволил ему дотронуться до себя. Я ничего не стал объяснять, да и не мог бы этого сделать, а он, догадываясь или сочувствуя моей беде, отпустил меня и защищал меня ещё очень долгое время, в течение которого я не мог позволить ни родителям, ни сёстрам, - всем, кого я любил, - дотрагиваться до себя. Все знаки нежности вызывали воспоминания о чём-то грязном, но в то же время и пленительным. Я слушал, как другие мальчики (да и девочки тоже) рассказывали друг другу об этой тёмной тайне - я вынужден был слушать. В этом был скрыт тот же соблазн, что я испытал в тот день в хижине. Я всё ещё помню одну служанку, которая научила меня большему, и временами я отчётливо представляю себе её голодные глаза, тяжело дышащий, открытый рот и чувствую её блуждающие руки.