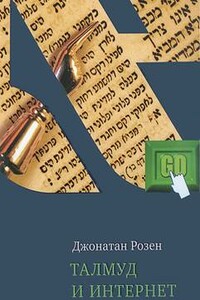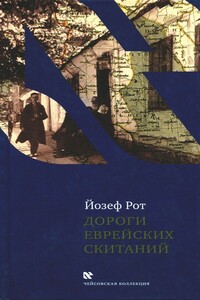В этом году в Иерусалиме | страница 24
Мой отец никогда не видел Парижа. Никогда не читал Йейтса[76]. Никогда не загуливал допоздна и не напивался вдрабадан с друзьями. Никогда не улетал, если заблагорассудится, в Нью-Йорк. Никогда не переворачивался на другой бок и не засыпал, когда пора было идти на работу. Никогда не влюблялся без памяти. На что он надеялся? Чего хотел? Понятия не имею — разве что мира и покоя, но их в его жизни, можно сказать, и не было. Насколько мне известно, он никогда не шел на риск, никогда не артачился. Мне почти не довелось видеть, как он гневается, лишь раз рассердившись, он урезонил родича, расхваставшегося тем, как успешно он вкладывает деньги в недвижимость, сказав:
— Знаешь, сколько человеку земли надо? Вот и у тебя когда-нибудь будет всего два метра.
Предвосхищая Банкера Ханта[77], он надумал копить в своей съемной комнате американские серебряные монеты. Синий дорожный сундук полнился аккуратными столбиками серебряных долларов, четвертаков, десятицентовиков. Но задолго до того, как они вздорожали, ему пришлось сбыть их по номинальной цене.
— Я опять пролетел, — сказал он смущенно.
Он взялся спекулировать на почтовых марках. Когда он умер в возрасте шестидесяти пяти лет, я обнаружил, что в сороковых он купил где-то в городе участок за тысячу двести долларов. Однако в 1967-м — при том, что цены на землю вздули и только последний дурак не греб деньги лопатой, — стоимость отцовского участка упала до девятиста долларов. Нельзя не признать, что при таких обстоятельствах это надо уметь.
Я был обуреваем страстями, отцу они были неведомы. Я мечтал о лаврах, он даже не вступал в соревнование. Вместе с тем мой отец, как и я, был писателем. Летописцем. Он вел дневник, куда заносил шифром собственного изобретения все обиды, оскорбления, предательства, семейные свары, неоплаченные долги.
Братья и сестры, бывало, подтрунивали над ним:
— Ой, ну ты нас и напугал! Смотри, я просто дрожу от страха!
Однако, когда его начал пожирать рак, они всполошились, засуетились: «Что будет с Мойшиным дневником?»
Мне был нужен его дневник. Очень нужен! Мне казалось: вот оно, мое наследство. Я надеялся: дневник откроет мне то, что отец по скрытности характера утаил. Но его вдова, дама жесткая, не пустила меня в ту комнату — она всегда была заперта, — где он хранил свои бумаги. Она сделала лишь одно исключение: