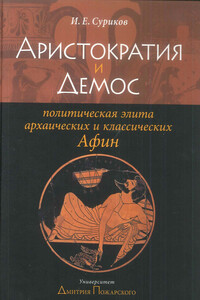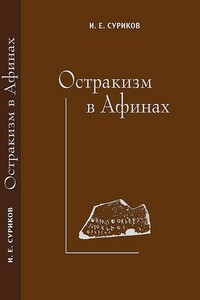Сапфо | страница 81
Нельзя, конечно, сказать, что индивидуальных танцев не было вообще. Разумеется, где-нибудь на симпосии уже разгоряченные вином гости могли посмотреть и какую-нибудь пляску гетеры, имевшую более оживленный и даже откровенно эротический характер. Но это уже, так сказать, субкультура. Есть вещи, которые в принципе существуют, но не включаются в правильный социальный быт. Вещи, которые для порядочных людей попадают в категорию «не комильфо». Тот же античный грек, который, может быть, и с удовольствием взирал, как некая дама легкого поведения в пиршественной обстановке в танце вертится перед ним осой, мягко говоря, отнюдь не приветствовал бы аналогичное поведение со стороны собственной супруги.
Мелика делилась на сольную (когда свои песни автор исполнял сам и себе же аккомпанировал) и хоровую. В рамках последней песни писались для хоров, исполнялись по разного рода торжественным случаям, а автор выступал в роли хормейстера и, наверное, дирижера. Впрочем, слишком уж строгой грани между этими двумя родами мелики проводить не стоит. Та же Сапфо свои произведения порой предназначала для собственного индивидуального исполнения, а порой сочиняла явным образом так, что сразу видно — это будет петь девичий хор.
Мелика, если говорить о ней в целом (а это наиболее уместно), отличалась от декламационной лирики меньшим количеством размышлений на общие темы и большей эмоциональностью. В ее памятниках, так сказать, преобладает сердце, а не разум. Мелика отличалась богатством ритмических форм, сложностью стихотворных размеров. Последние подчас очень сложно или просто невозможно передать в русских переводах соответствующих стихотворений, — в отличие от элегического дистиха или ямбического триметра, которые как раз без особых усилий «перелицовываются» и на наш, и на любой европейский язык.
Характерным примером может послужить творчество Пиндара («лебедя», как его называли) — последнего и крупнейшего из поэтов, работавших в жанре мелики. Пиндар, уроженец Фив, родился в последней четверти VI века до н. э. и прожил около семидесяти пяти лет. Иными словами, не стало его тогда, когда на дворе уж давно стояла не архаическая, а следующая, классическая эпоха — очень даже иная по множеству своих параметров. В частности, лирика как таковая верно шла навстречу своей смерти, уступала место драме. Но великий фиванец как будто не замечал перемен; он до предела совершенствовал старинный стиль торжественной, пышной оды. Не случайно у нас нередко называли «русским Пиндаром» не кого иного, как Ломоносова, столь преуспевшего в высоком одическом слоге.