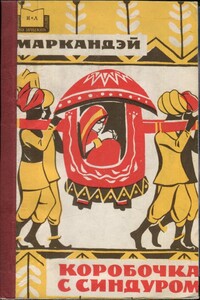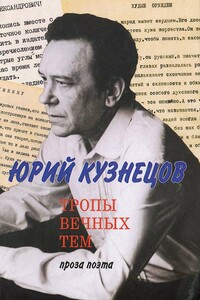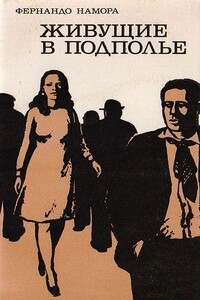Утраченное утро жизни | страница 17
— Чувствую, сеньор ректор. Чувствую себя очень хорошо в семинарии.
— Тогда почему же пишете, что хотите домой? С вами плохо обращаются?
— Нет, хорошо, сеньор ректор. Со мной очень хорошо обращаются.
— Сеньоры отцы-надзиратели не друзья вам?
— Друзья, сеньор ректор, они мои большие друзья.
— Вы не сошлись с коллегами?
— Сошелся, сеньор ректор. Но… Но иногда я очень скучаю…
Глупость моего поражения привела меня в отчаяние, мне захотелось плакать. Но я собрал все силы своего тщедушного тела, чтобы не расплакаться, и, вонзив ногти в ладони рук, сдержался. Ректор, похоже, заметил мою борьбу и, ослабив натянутые было поводья, разъяснял мне теперь очень уклончиво о высочайшем благодеянии Бога, который обратил на меня свой милосердный взгляд, о священническом сане, о покровительстве доны Эстефании, этой набожной сеньоры, которая спасла меня от столь обычной судьбы подобных мне людей. И, возводя глаза к потолку, где должен был присутствовать Бог, или сокрушенно закатывая их, он начал повествование моей печальной истории, которую я с большим вниманием слушал, потому что, как оказалось, я ничего подобного не знал. Отец мой умер, мать была бедной женщиной, и я барахтался в грязи моей судьбы, да, это так. Но то было детство, мое детство, и ничье больше. Между тем ректор раскрывал мне ожидавшее меня будущее: голод, усталость, мрак и гибель. И все это сообщалось холодным, бесстрастным голосом — стерильным инструментом пытки и истины. В какой-то миг тишины, ласки солнца и радовавшего душу стука бочара я поднялся со стула. И почувствовал, не знаю, как объяснить это, но почувствовал, что бочар, солнце и все то, что было миром, порочно и принадлежит греху и грязи.
Из ректората я вернулся побежденным, но полным благодарности, потому что хоть и велико было мое преступление, но ректор меня не наказал. Поэтому мне, втайне гордому, что из серьезной опасности я вышел целым и невредимым, захотелось вдруг громко кричать о доброте ректора и о величии Господа Бога.
И я написал своей матери, хваля семинарию и восхваляя будущее служителя Божьего.
VI
Тишина.
День обычный, как все, длинный и глубоко печальный, как вечера приговоренного к смерти больного. Для меня самым долгим и одиноким, естественно, был час сумерек. Час сумерек и еще другой час, час последних занятий и изнеможения от усталости. И все же, как я сейчас вспоминаю, особенно тяжелыми были для меня сами сумерки. Сколько же раз мне хотелось умереть! Исчезнуть, когда утомленное солнце скользило по потолку зала и из фантастического далека доносились отдельные короткие звуки уходящего дня. Да, я готов был умереть, потому что безысходность была очевидна. Огромные окна зала до половины были закрашены белой краской, и только верхняя часть их позволяла видеть простор пустого неба. Время от времени по идущей напротив дороге несся, точно ветер, испуганный автомобиль. Я слышал шум его мотора еще издалека, потом он нарастал с каждой минутой, врывался на миг в наши живущие в страхе души и постепенно стихал у линии горизонта. То же, что находилось за матовыми стеклами окон, растворялось в синем небе и рыжей нереальной пыли. И это было тем, что запало в мою память, и тем, что она хранила.