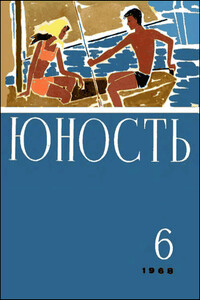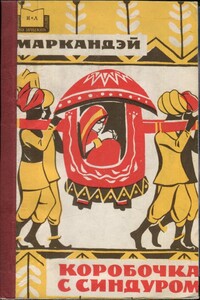Утраченное утро жизни | страница 12
IV
Играли мы наверху на лесной поляне, откуда хорошо было видно отделяющее нас от мира пространство. Глядя на долину, мы справа видели холмы Гардуньи, слева — оправленный в горы Ковильян и прямо — пустынные места, с которых до нас время от времени доносился прощальный свисток паровоза.
Инстинктивно я потянулся к Гауденсио, и не только потому, что мы оказались с ним рядом в зале для занятий, но и потому, что он, как и я, был беден и беззащитен. На второй день нашего пребывания в семинарии старшие семинаристы, словно сорвавшиеся с цепи псы, стали разыскивать его во время перемены, чтобы учинить дознание: «Где он?», «Как его зовут?», «Что сделал его отец?»
Это было жестоко. Его терзали вопросами весь день.
После учиненного допроса Гауденсио исчез. Я долго искал его в лесу и наконец нашел: он, задумчивый и одинокий, сидел, прислонившись к стволу каштана. Я сел рядом, и, сидя рядом, мы молчали. Сильно пахло прелым листом, что возвещало приход бесцветной усталой осени. Застывшие, точно замершие на холме, тонкие каштаны удрученно сбрасывали свои пожелтевшие листья. На влажном ярко-синем небе задумчивое солнце, как старый, сидящий в кресле инвалид, у которого нет никаких надежд на завтра, сторожило безо всякого интереса конец дня. А в долину, как в могилу, спускался густой туман, который, точно саваном, навсегда укрывал память о лете. Я посмотрел на Гауденсио, горечь в его глазах не исчезла. Тогда я молча взял его за руку — мне показалось, что так мы защищены от злобы людей и всего того, что нам угрожает в жизни, надежнее. Но тут же заметил, что Гауденсио, не обращая на меня внимания, безутешно плачет: по его лицу катились крупные горькие слезы. Я с силой сжал его руку, умоляя:
— Не плачь, Гауденсио.
— Я хочу уехать, — сказал он мне, полностью сознавая, что это невозможно.
Я хорошо понимал, что он предоставлял мне право быть сильнее его только потому, что он плакал, а я нет. И тогда я сказал:
— Тоска пройдет, ты увидишь, это только вначале.
— Это почему же мальчик плачет? — вдруг услышали мы у себя за спиной.
От неожиданности мы обернулись. Перед нами, как вестник бедствия, стоял отец Канелас со свистком в руке. Сразив меня своей храбростью, Гауденсио повернул к нему свое широкое мокрое лицо и сказал:
— Я хочу уехать.
— После перемены придешь ко мне. А сейчас будьте добры идти играть, как все.
На разбитой среди каштанов площадке с утрамбованной красной землей бегали семинаристы, они играли во флажки и поднимали штангу. Мы побежали к ним, но тут по свистку отца-надзирателя перемена кончилась. И Гауденсио пошел к Канеласу. Вернулся он от него совсем иным и больше не говорил о своем желании уехать из семинарии. И не отвечал на мои вопросы.