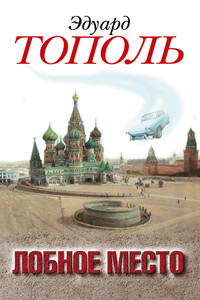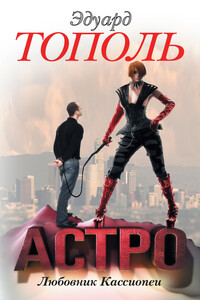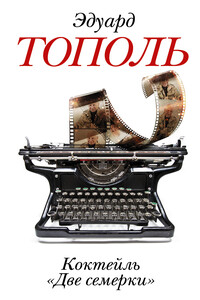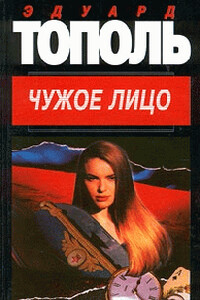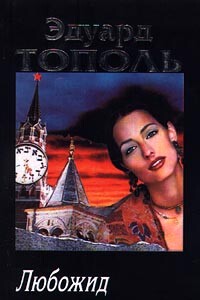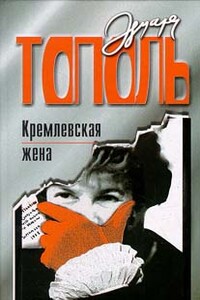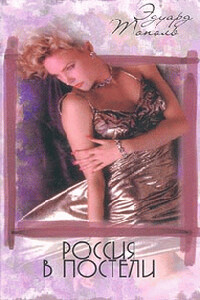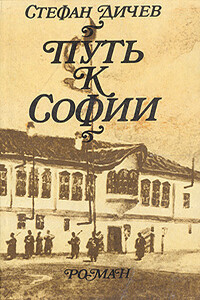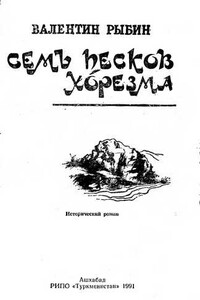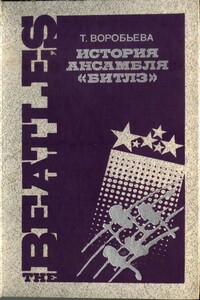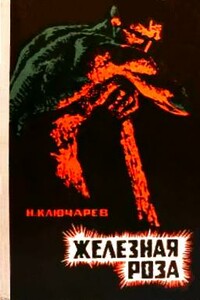Летающий джаз | страница 83
А смершевцы, конечно, устроились отдельно от них в только что восстановленном доме бывшего ОГПУ рядом с Корпусным садом. Поразительно (или показательно?), что сразу после освобождения Полтавы в сентябре 1943 года ее восстановление началось именно с этого здания, не имевшего никакой исторической ценности, но зато очень памятного многим, если не всем, полтавчанам…
Но не будем уходить в публицистику.
В эпоху Интернета создание исторического романа требует от автора куда большей осторожности, чем во времена Вальтера Скотта, Виктора Гюго, Лиона Фейхтвангера и Валентина Пикуля. Сегодня любой досужий читатель самоутверждается тем, что с помощью Гугла и Яндекса проверяет каждую вашу строку и с упоением ловит даже мельчайших блох — точно так, как в советские времена цензор, сидевший на пятом этаже в здании редакции «Правды», выискивал антисоветские, на его взгляд, намеки в гранках всех статей, которые в обязательном порядке ложились на его стол до публикации. Однажды, в бытность моей работы разъездным корреспондентом «Комсомольской правды», я был вызван в его кабинет. Сидя за обширным столом, заваленным оттисками завтрашних газет и толстенными кирпичами всевозможных справочников, Его Величество Цензор, одетый в костюм брежневского покроя, блеклую рубашку с узким засаленным галстуком-удавкой, поднял на меня глаза:
— Молодой человек… (В то время я и, правда, был молод.) В вашем репортаже с ударной стройки в Заполярье сказано: «В грязных болотах и сугробах вокруг нового железнодорожного полотна валялись куски ржавой колючей проволоки, кабина утонувшего в болоте трактора, согнутая консоль подъемного крана, еще какие-то железяки». Но вот у меня справочник всей продукции, которая производится в СССР. В нем нет колючей проволоки. Понимаете? В нашей стране колючая проволока не производится и никогда не производилась. Запомните это и уберите ее из вашего репортажа, иначе я не завизирую его для печати.
Этот разговор происходил тогда, когда по обе стороны бывшей «Мертвой», а затем «новой» железной дороги от Котласа до Оби сплошняком стояли деревянные остовы лагерных бараков, обнесенные заборами с колючей проволокой.
Иными словами, если сегодняшний читатель попробует с помощью Интернета открыть справочники производимой в СССР продукции, он тоже не найдет там колючую проволоку. Значит ли это, что ее и не было в СССР?
Но вернемся в послевоенную Полтаву, которую я помню по своему раннему детству. Не буду врать, я лично не знал Марию Журко и ее дочку Оксану, ведь они жили у Лавчанских Прудов, а мы в центре города. Но я помню совершенно разбитую Октябрьскую (Жовтневу) улицу, всю в кирпичных руинах, от Белой беседки до Корпусного сада и дальше до Киевского вокзала. Я помню ее, как сейчас, потому что именно в этих завалах, в бомбоубежище, уцелевшем под ними, в комнате, разделенной простынями на четыре части, ютились тогда четыре семьи, и одной из этих семей была наша — мои папа-мама и я с младшей сестрой. Целыми днями я с пацанами лазил по кирпичным завалам в поисках патронов, которые мы взрывали, играя в «настоящих» партизан и разведчиков. А потом, когда наша семья переселилась в отдельную четвертушку хаты-мазанки по улице Чапаева, 20, нашей соседкой слева была сорокалетняя тетя Надя, которая при немцах жила торговлей одеждой, снятой с евреев, расстрелянных в яре за Пушкаревкой. Я хорошо ее помню — худую, стройную, с рябым лицом, кокетливо-кудрявой прической под беретом и тем особым оценивающим взглядом, которым она смотрела на мои валенки и валенки моей сестры.