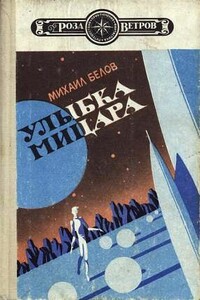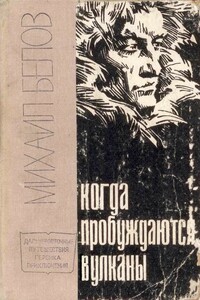Восьмая тайна моря | страница 25
— Знаешь, что поразило меня в нем? — сказал Лобачев. Трудно даже определить. Пожалуй, эдакое чувство снисходительного презрения к людям. Мне все время казалось, что он знает то, чего я не знаю…
— Ты о ком?
— О Холостове. Не могу уловить, в чем выражается эта снисходительность. Никаких внешних признаков. Только чувствуешь… Да, чувствуешь…
— И часто вы с ним встречались?
— Два-три раза… Пожалуй, довольно странный человек… Иногда такие мысли высказывает — просто диву даешься. Каланы…
Еремин курил. Каланы. Опять каланы… Опять не удастся провести воскресный день так, как хотелось бы. И никогда не удавалось. Может быть, в этом и секрет вечной молодости всегда быть на передовой линии, в праздники и будни, днем и ночью…
Чайки реяли над бирюзовой водой. Бухта лежала гладкая, как паркетный пол. Разве гладкая? Что там за всплеск? У чайки глаза оказались острее. Еще круги не успели разойтись, а серебристая рыбка уже трепетала в ее клюве. Еремин глубоко вздохнул. Он любил и ширь моря, и стремительный полет чайки над ним, и синеву неба. Разве не в стремительном полете вперед и выше! — смысл жизни? «Что я вспоминаю азбучные истины? — усмехнулся Еремин. — Старость, что ль, подходит?»
Лобачев снял котелок с ухой.
Они устроились на плащ-палатке. Лобачев извлек из рюкзака ложки. Еремин достал хлеб.
Запах ухи дразнил аппетит.
— Сказочный аромат, — сказал Лобачев. — Какая все-таки благодать — встречать новое утро на берегу моря, за котелком со свежей ухой…
Они с наслаждением поели ухи и растянулись на плащ-палатке. Лобачев закурил. Синий дымок папиросы тянулся к небу.
— Николай Николаевич, почему ты опять вспомнил о Холостове?
— Почему? Вспоминаю я о нем действительно часто. Может быть, потому, что меня огорчают его мысли. Я не могу принять их.
Лобачев замолчал, потом заговорил медленно:
— Не помню, кто-то из философов прошлого писал, что каждая эпоха рождает великого строителя и великого разрушителя и что один без другого не может существовать. Один дает силу другому. Один поглощает другого. Извечная борьба жизни и смерти, добра и зла. И почему-то Холостов, мне кажется, как раз из породы разрушителей.
— Итак, Холостов — великий разрушитель? — усмехнулся Еремин.
— Ну, положим, далеко не великий. Скорее — мелкий, но разрушитель.
— Великий разрушитель, великий строитель. — Еремин подбросил в костер хворосту. — Мутная философия. Ты, Николай Николаевич, подменяешь классовую борьбу категориями добра и зла. Чушь какая-то.