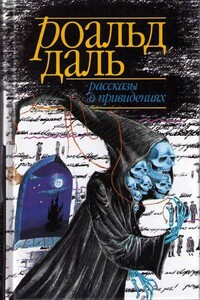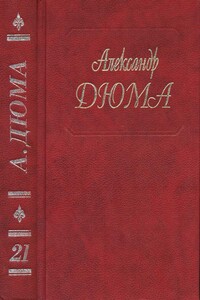Нильс Люне | страница 47
В небе взяли перевес серо–синие тона, и тяжелые дождевые капли застучали по стеклам.
Нильс стал рассказывать о том, как разыгрались волны, каких водорослей повыбрасывали они на берег, о том, что он видел, кого встретил, и, рассказывая, он собрал книги, запер двери, закрыл окна. Потом он опустился на скамеечку у ног матери, взял ее руку в свои и прижался щекой к ее коленям.
За окнами уже почернело, и дождь всей силой обрушился на стекла и рамы.
— А помнишь, — спросил Нильс после долгого молчанья, — помнишь, как мы с тобой всегда сидели в сумерках, и ты мне рассказывала сказки, пока отец толковал в конторе с управляющим Йенсом, а йомфру Дуюсен стучала в столовой чашками? А потом вносили лампу, и мы с тобой возвращались издалека в наш уют; только я хорошо помню, что сказка от этого не кончалась, а продолжалась где–то за холмами по дороге к Рингкёбингу.
Он не видел ее грустной улыбки, только почувствовал, как она нежно провела рукой по его волосам.
— А помнишь, — немного погодя сказала она, — как ты обещал мне, что, когда вырастешь, поплывешь на большом корабле и привезешь мне всю славу мира?
— Еще бы мне не помнить! Я хотел привезти гиацинты, ты их так любишь, и новую пальму, взамен нашей засохшей, и колонны из золота и мрамора. Ты всегда про колонны в сказках рассказывала. Помнишь?
— Я так ждала этого корабля — нет, молчи, мальчик, тебе не понять, это был бы корабль с твоим счастьем… я надеялась, что жизнь у тебя будет большая, богатая… что будет слава… нет, не то, я думала, что ты будешь всегда отстаивать самое важное… о, сама не знаю, на что я надеялась, только я так устала от будничного счастья, будничных забот. Ты понял?
— Ты хотела, чтоб твой сын был счастливчиком, мама, из тех, кто не впрягается в общее ярмо, кому и в раю уготовано местечко и в преисподней. И чтоб вся палуба на том корабле была усыпана цветами и твой сын мог бы осыпать ими бедное человечество. Но корабль опоздал, и Нильс с мамой остались ни с чем, правда ведь?
— Я обидела тебя, мой мальчик; это все так, сны; забудь про них.
Нильс долго молчал, ему трудно было побороть неловкость.
— Мама, — начал он наконец, — не такие уж мы бедные, как ты думаешь. Корабль еще придет… только поверь в него… или в меня. Мама… я поэт… поэт истинный, всей моей душой я поэт. Ты не подумай, это не детские выдумки, не тщеславный бред. Если б ты только знала, с какой благодарной гордостью, с какой смиренной радостью за все лучшее во мне, ничуть не приписывая себе в том заслуги, если б ты знала, как отвлеченно от себя произношу я эти слова, ты бы все поняла так, как мне нужно. Милая, милая! Да, я буду отстаивать самое важное и обещаю тебе — я не изменю, я останусь верен себе, лучшему во мне, я не пойду ни на какие сделки с совестью, мама; лишь почувствую трещину, изъян в своем сплаве — и тотчас назад его, в тигель; всегда, все — только изо всех сил. Ты пойми, я должен обещать! Благодарность за мое богатство толкает меня на обещания, а ты их прими, и если я их нарушу, значит, я тебя обману, и тогда я пропал, ведь это ты так высоко направила мою душу, ведь на твоих мечтах она выросла, ведь это твоя упрямая тоска по красоте решила мою судьбу!