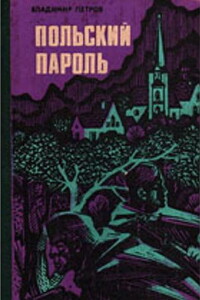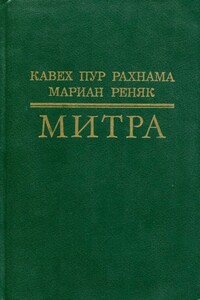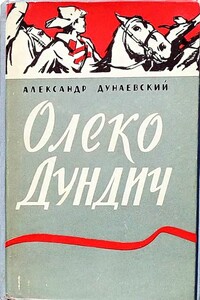Единая параллель | страница 73
Суковатой палкой раздвигая лопухи, дед заспешил дальше, к табуну, понуро кучившемуся на опушке. Остановился, с минуту буравил глазом лошадей, сплевывал, пришептывал чего-то в жиденькую бороденку. Дернул Гошку за рукав сердито, озлобленно:
— Скажи-ка мне, варнак недобитый, это кто же так животину ухайдакал?
— Больные они, дед, — сказал Гошка, — сап у них.
— Чаво? — Дед потоптался на месте, зыркнул на Гошку, на киномеханика и побежал, дергаясь и семеня, к табуну, зашел там в самую середку. Минут пять глядел лошадей, палкой приподнимал верхние губы, осматривал глаза, ноги, нагибался иным под брюхо.
Возвращался дед еще более злой, издали ругался, размахивая палкой. Попер прямо на Степку, тот быстренько увернулся, спрятался за «Культпросветку».
— Кто сказал сап? Ты, дубина, сказал сап? Ты фершал али кто?
— Я киномеханик… — не на шутку перепугался Степка. — я их только мазал. Для профилактики.
— Погоди, погоди, дед! — вмешался Гошка. — Он тут ни при чем. Это на стройке, на конном дворе, определили, что у них сап. Понимаешь, работала комиссия.
— Ироды! — возмущенно кричал дед. — Забили, захлестали лошаденок, а все хотят свалить на болезнь! Нету у них никакого сапа! Они на брюхо худые, кормили их разной дрянью. Плохо кормили!
Дед возбужденно высморкался, прикладывая палец поочередно к одной и другой ноздре. Утерся грязной тряпицей, успокоился. Сказал Гошке:
— Опять ты вырядился будто юродивый. И штаны цыганские нацепил, балаболка! Тьфу! Коней-то лечить пригнал, что ли?
— Ну да…
— Вот сам и выхаживай, мне некогда. Моралий корень им надобен, пойло заварное делай. И пущай пасутся вволю, вон туда их гони на луговину, на кендырь да на дудник сладкий. Живо оклемаются.
Вечером на берегу старицы жгли «гостевой костер» по давней традиции Старого Зимовья. Раньше-то к деду много разного таежного люда хаживало — далеко шла о нем молва, как о человеке, знающем травы, «разговорном да приветистом», умеющем слово сказать заветное, истовое, из самой души вынуть то слово да и в душу положить. Не держался Липат ни кержацкой общины, ни властей местных, ни к кому на поклон не ходил, жил сам по себе бобылем-волдырем. Ладил дуги, полозья березовые, деготь гнал, медок махал (четыре колоды — не пасека!), а в последние годы, как медведь-шатун помял его по зиме: глаз вышиб, ногу изувечил, перешел старый на корзинки да веники. Да и народишко шибко умный пошел, забывать стал отшельника-ведуна.
Поздняя заря размахалась вполнеба, густая, молочно-розовая, цвета чистого коровьего вымени. Уходила медленно, будто тяжелый полушалок одергивала, из-под которого враз выскакивали-перемигивались звезды. Над костром висел тот самый медный чайник-шарабан с погнутым носом, неподалеку вздыхали, фыркали кони, жались к дыму от мошкары. На бугре скрипел дергач; в ивняке поблизости ему сонно вторили перепела…