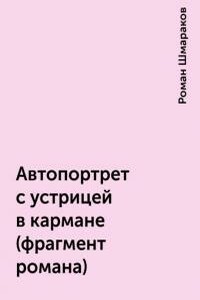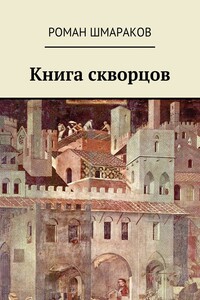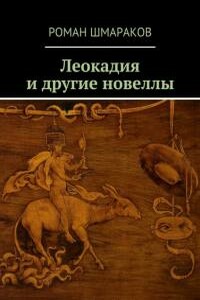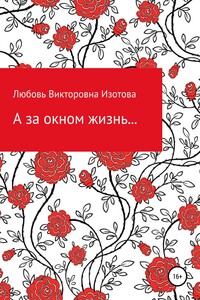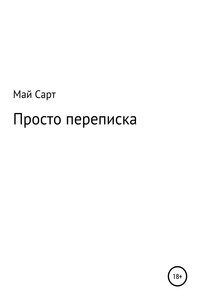К отцу своему, к жнецам | страница 54
Тут она остановилась, заметив, что ее сын глядит на бабочку, влетевшую в покои: аравийские ароматы обманули ее, уверив, что здесь продолжение сада, а зеркало поддержало обман, сказав ей, что она тут не одна. Богиня же, с улыбкою взирая на рассеянность Купидона, наконец привлекла его такими словами:
«Прекрасны ее пурпурные крылья и боязливое блужданье по воздуху; а ведь она состоит из тех же стихий, что и весь мир, и если ты не пройдешь мою школу, то не только вселенную, но и одну бабочку не ухватишь. Дослушай урок, а потом я отведу тебя в грот, сокрытый глубоко в роще: туда залетают птицы, чтобы им отзывалось покорное эхо, а внизу кипят и дмятся темные воды: не пожалеешь, думаю, что был мне послушен.
Итак, от вожделевательного начала происходят радость и надежда, от раздражительного – скорбь и страх: это как бы первоначальные стихии, из коих слагаются все сущие пороки и добродетели, благодаря порядку и мере или же их отсутствию. От них происходят четыре главные добродетели, о коих философы говорят, что это все одна любовь, по-разному устроенная, как ты складываешь из одних и тех же костяных фигурок то рыбу, то чашу, то быка; например, благоразумие – это любовь, различающая, что помогает человеку по мере его сил приблизиться к божественному, а что этому препятствует. Подобным образом от раздражительного начала взрастают ревность, гнев, негодование, ненависть, об устроении которых, однако, я говорить не стану, чтобы тебе не наскучить. Чувства же, происходящие от разумного начала, трояки сообразно троевидному времени: то, чем исследуется неведомое, называется дарованием или остроумием, то, что судит об уже обретенном, именуется рассудком, то же, что сберегает обсужденное и сбегает за ним в свои глубокие хранилища, когда что-то требуется для трапезы рассудка, – это память, владелица прошлого. Ведь не все, что мы знаем, постоянно вращается у нас перед умственным взором, но по необходимости спускаемся мы и извлекаем то одно, то другое.
И как этот видимый мир уходит пятью ступенями вверх – земля, вода, воздух, эфир, или твердь, и само высшее небо, нарицаемое эмпиреем, – так и у души, странствующей в мире своего тела, есть пять продвижений к мудрости: ощущение, воображение, рассудок, разумение, разум. Ощущение подобно земле, ибо не выходит за пределы тела; оно, как ты знаешь, имеет пять видов, словно вода, истекающая из купели через множество отверстий разными струями, хотя по природе одна и та же. А за ощущением идет воображение, то есть сила, воспринимающая формы телесных вещей, но в их отсутствие; это крайнее усилие телесного духа, уход от телесного, но не прибытие к бестелесному. Хоть душа, будучи бесплотной, не ограничивается каким-либо местом и видится через тело, как смысл через буквы, однако ощущением она вращается вокруг тел, а воображением – вокруг подобий тел и мест, и в них или бодрствующая, или спящая, или обезумевшая на время, или совсем затмившаяся, сама собою или же по действию другого духа представляется делающей что-то или претерпевающей. Воображение и ощущение, словно Пирам и Тисба, – ты, я думаю, слышал историю этих вавилонских любовников, если сам не приложил к ней руку, – сходятся с двух сторон к стене, разделяющей душу и тело, и о многом толкуют между собою, хотя и не в силах совершенно соединиться, но секреты свои исповедают и поцелуй украдкой срывают в расселине между камнями. Нет в этом ничего удивительного: ведь если высшая часть души, то есть разум, несущий образ самого божества, может сочетаться с божеством в некоем личном единении, не изменяя своей природе, почему бы и высшая часть плоти, то есть ощущение, несущее в себе подобие души, не могло сочетаться с нею подобным образом? Назови это браком, если хочешь, и благослови его: ведь тут сходятся серединами далеко отстоящие друг от друга душа и плоть».