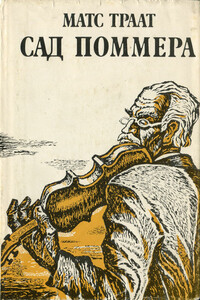К отцу своему, к жнецам | страница 37
А то, что ты называешь своим изгнанием, есть неведение о себе, которое ставит тебя среди детей мрака; но если ты хочешь вернуться в отчизну, есть путь надежный, не телесными шагами, но влечениями сердечными, и проходит он по городам, давно и хорошо известным.
Д. Вижу, ты вновь намереваешься вести речь о дарах, еще у меня не отнятых, и о достоянии, способном мне помочь, проще говоря – о свободных искусствах. Достойные человека благородного, они, однако, сами по себе – не добродетель, но лишь помогают ее воспринять. Их города я знаю настолько, чтобы усомниться в их помощи: хочешь, за тебя скажу все похвалы, которые у тебя наготове?
Ф. Хочу, приступай.
Д. Ты скажешь: «Вот грамматика, первый город на твоем пути из изгнания: тремя воротами в него входят, на восемь частей он разделен, каковое число и человеческую речь объемлет, и блаженства душ; здесь Донат и Присциан в своих школах учат странников новому языку и наставляют твердым правилам тех, кто возвращается в отчизну. Близлежащие селенья, сему городу подвластные, суть книги поэтов: там Лукан, о бранях поющий, там Теренций, венчающий суматохи свадьбой, там Персий с заносчивою укоризной, там и Гораций, с хвалою богам и владыкам». Что же мне на ее стогнах? что во власти ее ферулы? Говоришь, воспитанные ею превзойдут других людей разумною речью, как люди превосходят зверей, – уповать ли на это мне, у которой разум вместе с солнцем отнимается? Она, говоришь, придав вещам имена, осчастливила смертных даром общения – радоваться ли этому мне, которая никому о себе поведать не может? Она, говоришь, наименовала вещи и сами по себе, и в сочетании, и как общие понятия, ведомые разуму, и как единичные свойства, доступные ощущениям, – мне ли выгадывать на этом, которая от вечерней зари до утренней уж не зовется «я», но и подлежащим, и местоимением быть перестает? Чем она мне поможет? Разве что даст воспеть крушение моих стен, как Нерону – гибель Пергама.
Ф. Что же риторика, так пылко тобою любимая?
Д. «Риторика, – скажешь ты, – второй город; три дороги в нем, то есть показательный, совещательный и судебный род; в одной его части святыми предстоятелями декреты составляются, в другой – царями и судьями эдикты оглашаются. В этом городе Туллий обучает странствующих истинному витийству и четырьмя добродетелями устрояет нравы. Вокруг этого города – истории, баснословия, книги ораторские и этические; не под силу ни одному человеку, ни многим воздать достойную хвалу этому месту». Вот что ты скажешь о нем, я же могу прибавить: сколь обширна эта наука в своих сведениях! в замыслах сколь основательна, сколь дерзостна в начинаниях, в успехах сколь благотворна! Людей, живших без закона, смесясь с диким зверьем, она приводит к гражданству и общему праву, стеснив их буйность могущественными внушениями благоразумия; в гражданах поддерживает согласие, в тиранах обуздывает порывы гнева и сладострастия, всюду водворяет порядок и меру. Своих питомцев премного отличает пред прочими: посмотри на Туллия, коим одолен Цезарь, никем не одоленный, – посмотри на человека, Марку Марцеллу вернувшего сан, от Квинта Лигария отклонившего смертную секиру, Дейотара избавившего от всевластной немилости: отступал лавр пред этим языком, стихал шум оружия пред звоном красноречия. Что же мне в ее блеске и пышности? Пойду ли с показательным витийством на Марсово поле, поднимусь ли на Капитолий с совещательной речью, вступлю ли с судебною на бурливый Форум? Каким утешением, каким убеждением меня подарит эта наставница человечности, если я не знаю, в каких пределах я еще человек и долго ли в них останусь? Разве что своей сладостью обведет края моей горькой чаши, чтобы мнимой утехой повеселить того, кто лишен истинных.